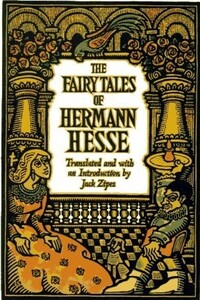Избранное | страница 54
Чиновник, человек спокойный, неглупый, но и не отличавшийся особым умом, не утруждал себя науками, боясь, что это будет непосильным бременем для его посредственных способностей. Жена его — красивая, молодая, жизнерадостная женщина, очень любила спорить; она сходила с ума от «Ролла»[12], недурно декламировала «Le saule»[13] и «Звездочку» Александри;[14] особенно одну гениальную простую строку: «Когда мы были на свете одни, ты и я», — она произносила чудесно, с тем чувством, которое было вложено в эту строку, и в ее голосе звучали и грусть и сожаление, глубокие и человечные.
Он умолк. Потом улыбнулся, пробормотав свое обычное, печальное: «гм-гм». Свернув папироску, он прикурил от свечи; затем, посоветовав мне выпить чаю, он продолжал свой рассказ, но таким странным и ироническим тоном, будто подсмеивался над кем-то.
— Барыня была добра ко мне. Она беседовала со мной, смеялась, спорила целыми часами. Ей хотелось знать, каковы мои вкусы. Мы толковали о всех великих поэтах; вызвав меня на спор, она слушала, не двигаясь, пристально глядя на меня, и всегда под конец признавала мою правоту, заявляя, что ей очень нравятся мои рассуждения, нравится, как я читаю стихи.
Я краснел, а она смеялась.
Мы стали друзьями, хотя даже не называли друг друга по имени.
Однажды мы спорили с ней о том, любил ли кого-нибудь один из наших знаменитых поэтов, любил ли как настоящий художник и поэт, и отвечает ли его любовная поэзия глубоким и истинным душевным порывом. Она утверждала, что его поэзия отражает подлинные чувства, я же придерживался иного мнения…
— Что ни говорите, но эти легкие, прозрачные, прелестные стихи, эти удачные сравнения, эта глубокая вера в любовь, — говорила она, — яркое доказательство того, что поэт сам переживал эти чувства и сумел передать их.
— Нет, я с вами не согласен, — возражал я. — Стихи его легки потому, что они не выражают ничего, а музыка стиха и не может быть иной. Чистота же его стихов идет не от глубины чувств, а от полного равнодушия поэта к тому, о чем он пишет. Когда поэт говорит о том, о чем мог бы сказать любой здравомыслящий человек, беззаботно развалившийся на мягкой софе, то ему непростительно быть непонятным, тем более что всю жизнь он только и делал, что чирикал стихами. Его сравнения, как вообще и все изобразительные средства, по своей форме и по содержанию, то есть по тому, как они стремятся осветить и оживить идею, это робкие, ученические поиски. Его пышный стих лишен движения и жизненной теплоты. Вот именно эта пышность стиха и говорит о том, что писатель не умеет одновременно видеть, чувствовать и понимать жизнь. Если он видит и чувствует, то не понимает, а если видит и понимает, то не чувствует. А если же и видит, и чувствует, и понимает, тогда, разумеется, речь идет о том, что уже непостижимо уму заурядного человека. Бесконечные же уменьшительные словечки, найденные поэтом, безжизненные, надуманные образы, полное непонимание человеческой души, бесцветность стиха, холодность чувств — все это обнаруживает в нем человека самовлюбленного, равнодушного ко всему. Я бы сказал, что только когда поэт изображает то, что видит, и записывает то, что слышит из уст народа, только тогда его творения действительно хороши, только тогда он подлинный художник. Тут же любовь, как и все другие душевные переживания, осталась для поэта скрытым недосягаемым сокровищем.