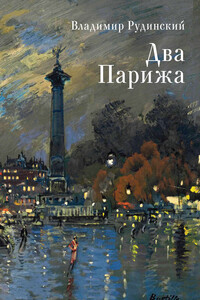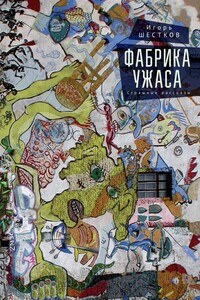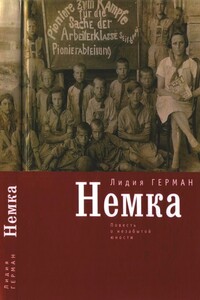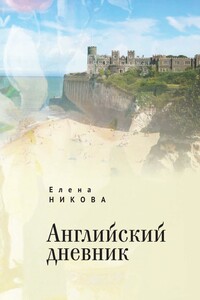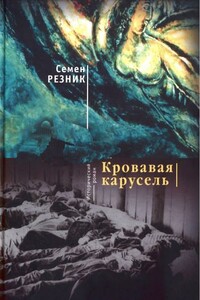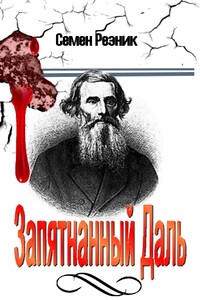Логово смысла и вымысла. Переписка через океан | страница 46
Но официальная цензура является отнюдь не единственной инстанцией, которая в СССР осуществляет функции надзора за печатью. Здесь задавали вопрос о том, сколько людей осуществляют в СССР цензуру печати. Ответить на него просто: практически все работники печати, в той или иной степени являются цензорами, так что цензура носит тотальный характер.
Первый этап цензуры, и порой наиболее жесткий — это самоцензура автора. Даже те произведения, которые не попадают в печать и расходятся в «Самиздате», неизбежно проходят жесткую самоцензуру. Автор избегает называть имена людей, чтобы не подвести их, он избегает высказывать определенные взгляды, которые могут быть интерпретированы так, что он получит семь лет тюрьмы, а не три года, на которые он, возможно, внутренне решился… Так, подчеркиваю, обстоит дело с «Самиздатом». Если же писатель предназначает свое произведение для издания официальной советской печатью, то само собой разумеется, что он начинает с самоцензуры.
Моя первая книга, биография академика Николая Ивановича Вавилова, была издана в 1968 году.
Академик Вавилов, как это хорошо известно, был великим генетиком и растениеводом, принципиальным сторонником теории наследственности, созданной Менделем и Морганом. В 1930‐е годы Н. И. Вавилову пришлось участвовать в так называемых «генетических дискуссиях», навязанных советским ученым группой невежественных обскурантов во главе с Т. Д. Лысенко. Основным оружием полемики этой группы были демагогия и прямые политические доносы. Лысенко и его сторонников поддерживали руководители советского государства и величайший генетик всех времен и народов товарищ Сталин. В результате этих «дискуссий» научная генетика в СССР была разгромлена, Н. И. Вавилов арестован и приговорен к смертной казни, «милостиво» замененной ему двадцатилетним заключением, которого он не вынес. Он умер в тюрьме от голода. Это — человек, трудами которого Советский Союз уже в то время получал, да и сейчас получает миллионы пудов прибавки урожаев хлеба. Но он не имел куска хлеба, тюремщики не давали, и от этого он умер. А я, уже в 60‐е годы, писал о нем книгу. И поскольку я хотел, чтобы хоть какая‐то часть правды дошла до читателей, я, прежде всего, должен был заниматься самоцензурой.
Самоцензуре пришлось подвергнуть не только мои собственные суждения, но и архивные материалы, которые мне удалось разыскать. Многие из них я не включил в рукопись отнюдь не из‐за их малой значимости для раскрытия моей темы, а по цензурным соображениям.