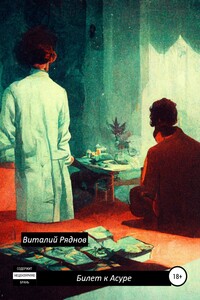Избранное | страница 70
Из-за всех этих треволнений широкая и прямая спина Эгона Таубера начала горбиться, руки дрожать. Действительно, сейчас, только сейчас, он стал ни на что не пригоден. Он понял это и перестал ограничивать себя в курении. Раньше он выкуривал одну-две сигареты в своем кабинете в клинике, потом курил в саду, потому что Минна не выносила табачного дыма. Теперь же он выкуривал по десять папирос в день, и Минна только всплескивала руками в отчаянии. Такие расходы, такие расходы, и это после того, как Мозеровский банк был национализирован со всеми их сбережениями! Она и теперь не позволяла ему курить в спальне или в холле, она посылала его в гостиную: пусть бывшая его помощница терпит этот запах, ведь она с детства привыкла к запахам и похуже, к конюшне и свинарнику.
После обеда, в четыре часа, доктор Таубер усаживался в гостиной, положив рядом с собой портсигар, а на колени книгу, и терпеливо дожидался возвращения Анны. Если у нее было собрание или какие-нибудь другие дела и она опаздывала, доктор нервно курил одну папиросу за другой. Когда Анна появлялась, лицо у него светлело. Он откладывал книгу, улыбался и смотрел тепло и мечтательно на то, как она снимает пальто, повязывает передник, надевает домашние туфли, как бегает в кухню и из кухни. Он терпеливо дожидался, когда она вымоет посуду, а потом, удобно развалившись в большом кресле Анны, которое теперь принадлежало только ему, начинал тихий разговор. Анна штопала, шила или латала, примостившись на краю кровати.
Через дверь доносились тяжелые шаги Минны, она пересекала холл. Но как только Эгон слышал, что Минна спустилась по лестнице, направляясь в город или сад, он с трудом вставал, распрямляя свое высокое тело, пересаживался на кровать и клал голову на колени Анне. Она откладывала работу, снимала очки и начинала перебирать его седые волосы, гладила виски и ввалившиеся щеки привычными за тридцать лет движениями.
Доктор что-нибудь рассказывал, время от времени зажигал папиросу и курил уже спокойно, с удовольствием, с наслаждением.
Рассказывал он вещи, о которых когда-то, наверное, уже говорил ей: о сложных и удачных операциях, о своих студенческих годах в Вене (из которых из уважения к Анне, естественно, была исключена Мици, словно ее не было вовсе), о том, как до национализации сбывались все его замыслы, которые он лелеял еще во времена отрочества; случались и воспоминания, давно погребенные на дне памяти и никогда до сих пор не всплывавшие на поверхность, — воспоминания об отце, о матери, о первой игрушке, о собачонке, которая была у него в четыре года, предания, услышанные от отца о дедушке-часовщике, который имел дом на верху крепостного холма, унаследованный им от предков, о прабабушке, верившей в блуждающих духов, которые вышли ночью с кладбища и бесшумно утащили большой соборный колокол; рассказывал он о том, как деда отца, тоже ювелира, убили разбойники, и страшную повесть о ночном погроме, разорившем их семью, которую он слышал от бабки. «Один из Тауберов…» — так неизменно начинались все эти рассказы, — «один из Тауберов…» или «один из Гергардтов, из маминого рода, весьма уважаемый мастер кузнечного цеха…». Все эти люди жили так, как было им положено, достойно и честно, и сам он жил достойно и создал из себя великого доктора Таубера.