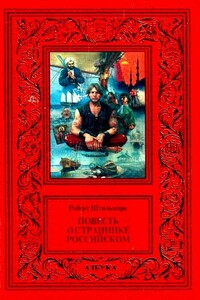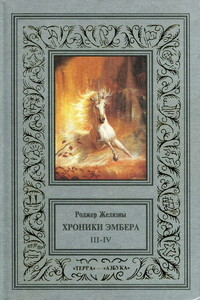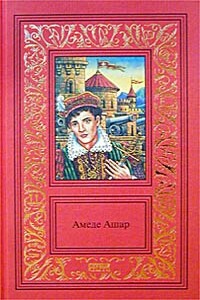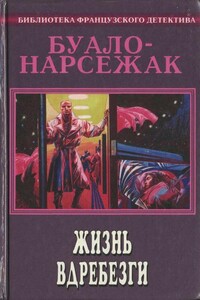Буало-Нарсежак. Том 1. Ворожба. Белая горячка. В очарованном лесу. Пёс. | страница 55
Когда я проснулся, то сообразил, что уснул, положив голову на руки. Затылок у меня ломило. Было часов пять утра. Я бесшумно разделся и скользнул в постель. Элиана не шевельнулась. Я еще раз перечислил все «за» и все «против»… Честно говоря, я не имел права обвинять Мириам.
В тот же день в половине пятого я ждал на склоне, ведущем к дамбе. Я был полон нетерпения, как когда-то. «Когда-то» означало всего каких-то несколько недель назад. За несколько недель самая великая любовь моей жизни съежилась и увяла. Может, я больше не люблю Мириам? Откуда известно, что любишь? Как все на свете, я читал всевозможные истории о любви. Ни одна не напоминала мою. Мириам, Элиана — чем они были для меня? Сожалениями, укорами, сомнениями — в общем, отрицательными эмоциями. И в то же время, как только дамба обнажилась, я запустил мотор, как пришпоривают лошадь. Я спешил к Мириам и вместе с тем уже хотел вернуться обратно.
VII
Вилла, как обычно, казалась спящей. Я не хотел заставать Мириам врасплох, но поскольку меня отсюда выставили, и позабыть об этом я никак не мог, и был уже не своим и не чужим, то и не знал, как мне предупредить о своем появлении. Обычно меня встречала Ньетэ. Сегодня — полнейшая тишина. Я поднялся на крыльцо — дверь не заперта. На первом этаже — никого. Я кашлянул. Никого. Я двинулся к лестнице. Неприятнейший сюрприз: на вешалке висит синий плащ Мириам. В общем, естественно, что он тут висит, это его всегдашнее место. Не окажись он здесь, что бы я подумал? Что Мириам спрятала его — точно так же, как фотографии! И все же этот темный силуэт внизу, у лестницы, подействовал на меня крайне неприятно, и я, поднимаясь по лестнице вверх, не раз обернулся. Дверь спальни была приоткрыта, и я осторожно заглянул в нее. Мириам спит! Это в пять-то часов! А потом будет бродить до утра. Идиотизм! Я вошел и тут же почувствовал запах лекарств. Неужели Мириам больна? Ставни не были прикрыты, и я отчетливо видел ее лицо — немного бледное, осунувшееся и, похоже, изможденное скорее тайным страданием, чем болезнью. Печаль, что так часто появлялась на ее лице, лежала на нем и сейчас и была так трогательна, что я невольно преисполнился жалости. Неужели это из-за меня она так страдает во сне? Я хотел пощадить Элиану, но соразмерил ли я испытания, которым подвергаю Мириам? Не является ли она теперь жертвой? Может, я напридумывал эти ужасные истории с колодцем и люком для того, чтобы заполучить основание отвергнуть ее любовь? Потому что ее любовь, куда более сильная, мучительная и горькая, чем моя, стесняла меня, унижала и, в каком-то смысле, приковывала к позорному столбу. С ней я превратился в мужчину, который не умеет говорить «да»». Мириам! Милая моя Мириам!» Мириам, которая по-прежнему глубоко трогала мое сердце, особенно сейчас, когда, спящая, принадлежала мне целиком. Я люблю беззащитность. Хотя, вполне возможно, в моем пристрастии больше гордыни, чем доброты. Но чувство это совершенно искренне. Я опустился на колени возле кровати. Мириам спала не раздеваясь. Она только прикрылась одеялом. Доказательство ее невинности я мог получить незамедлительно, не задавая никаких глупых вопросов, от которых она, конечно же, придет в ярость. Мне нужно было только поднять одеяло. Я пребывал в нерешительности. Само по себе это мне казалось отвратительным. Разве не проще, естественней, честнее разбудить Мириам и сказать: «Поклянись, что ничего не пыталась сделать с моей женой!» — и потом поверить ее ответу. Зачем брать на себя роль Фомы неверующего, пытаться во всем разобраться самому, словно я судья, свидетель и прокурор в одном лице? Но желание узнать правду и получить свидетельство против Мириам доводило меня до головокружения. Я приподнял одеяло: на левой щиколотке у Мириам белела толстая повязка.