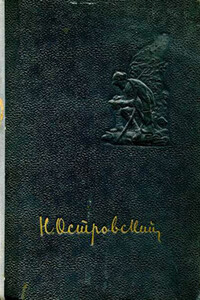Зеленое яблоко | страница 35
— Нет, мы не зря совершали революцию!
— А между прочим, Альфонс действительно герой действительно драматургического произведения. Что касается производного значения слова, то, возможно, и в самом деле оно тебе лучше известно — не с одними же шулерами ты общался, но и с альфонсами, наверное?!
Или Толик приносит в класс приобретенные накануне «тапочки» для себя и своей подружки. Очистив лак на туфлях рукавом, он демонстрирует их нам. Я заливаюсь хохотом: «Шарик на черных лыжах». Когда же, обеспокоенный, не маленький ли размер приобрел для своей подружки, он предлагает мне померить их — нога моя тотчас проваливается в длиннейший лаковый носок, а пятки и каблуки остаются свободными на манер Маленького Мука. Я охотно вожу эти тапочки по проходу между партами, подобострастно восхищаясь при этом «изяществом, аристократичностью» его прекрасной возлюбленной — он и сам помирает со смеху.
Словесным потасовкам нет конца. И вместе с другими упивается нашими спектаклями Тима.
Мне было весело и спокойно. Тимур — казалось, больше из-за Цебаковского, чем из-за меня, почти всегда был рядом, даже сидел сзади. Со мною он был нежен, как никогда, называл солнышком, что не исключало, конечно, ни ссор, ни отдалений и обид, но уже не было бешенства, ненависти, оскорблений: потому ли, что рядом с Цебаковским это было невозможно, или же потому, что все мы повзрослели, и у Тимура были все основания считать меня утраченной, ушедшей от нашей зависимости. Ведь и ненависть, как сильное взаимодействие, возникает лишь на ближайших расстояниях. Да, он был уверен, что я о нем и думать забыла. Думать-то, может, и забыла, но, когда я оказывалась рядом с ним, меня, как никогда раньше, буквально трясло. Я боялась, что он дотронется и услышит мою дрожь. Впрочем, и он ведь бывал странен: во время самого простого нашего разговора руки его вдруг начинали дрожать, как у похмельного, лицо становилось отчаянным, утопающим. Что ж, одной болью меньше, одной больше, так уж заповедано в этой любви: никуда нам друг от друга не деться и никогда не быть вместе. Несоединимо — никогда и ничем, разве лишь тем моцартовским концертом, снежной счастливой весной и парением души навзничь.
Потому-то и теперь, в самые дружелюбные наши времена, завидев его, — а я всегда, еще даже не свернув на улицу, по которой шел он, знала бесчувственно, что сейчас увижу его, и в самом деле обнаруживала идущим навстречу, — тут же спешила перейти на другую сторону. И если уславливалась встретиться — все равно неодолимо желала прошмыгнуть, обойти. Неошибающийся инстинкт! Я и вообще-то избегала сталкиваться со знакомыми, хотя бы потому, что нужно здороваться, — не выношу здороваться, а то и говорить. Когда же навстречу шел он, срабатывало большее — чувство самосохранения. Товарищество, шутки, нежность или, напротив, насмешки, подкалывания — это на людях, при всех. Наедине же встретиться — непереносимо! И если уж он окликал и приходилось «замечать» его, я торопилась как можно скорее прервать разговор. И он уже и сам дергался отойти при моем, даже не движении, одном взгляде в сторону.