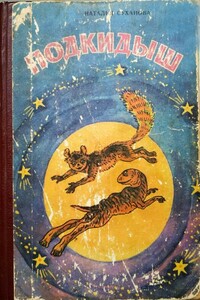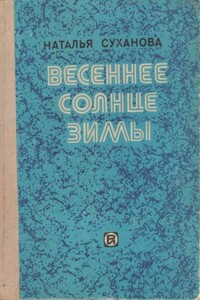Зеленое яблоко | страница 12
И уж вовсе несливаемо, несоединимо — «Сенокос». Я и сейчас не умею слить воедино все, что на этой картине. Три женщины на первом плане шагают вроде бы в ногу: зрелая, озабоченно уставившаяся в пространство, подалась вперед, с грубоватой силой сжимая держак граблей; девушка рядом с нею с нежной доверчивостью, с мечтой, с ожиданьем глядит прямо на вас; и наконец, старая женщина, еще не оставившая трудов, но уже настрадавшаяся, со взглядом, поднятым над людьми и землей. Впрочем, это уже воспринято позже. При первом рассмотрении я еще не вглядываюсь в лица, люди меня интересуют меньше земли и неба. Разве что уколет мысль: возможно ли, что эта девушка станет такой вот женщиной, а потом этой старухой? Ни одна из них не смотрит на другую. Как и вообще на картине почти все вне друг друга. Мир дороги. Мир ближних двух полей. Ближние дома. Почти посреди картины совсем уже другое: одинокая грабельщица и чуть ближе нее барышня в белом с ребенком, здесь как будто бы все то же — и стожки, и солнце, — но словно в воде или в тумане, так густа и голуба тень. Дальше — в другом, золотом пространстве холм со стадом, мельницей и всадником. И уже совсем другой мир — далекий город у хмурой реки. Сколько миров в одной картине — они не одновременны; потому что не взаимодействуют друг с другом, у каждого свое время. Время гонит соки вверх по дереву каждой отдельной жизни, отдельной семьи, деревни, дома или города. Сейчас я это анализирую. Тогда чувствовала со страхом и бессилием.
Впрочем, я ведь все время разделяю: вот так я относилась к хореографии, а так к живописи, а так еще к чему-то. Потому что мы уже привыкли и в школе, и в науках, и в жизни расслаивать и обособлять. Даже уже и жизнь, похоже, как в той картине Брейгеля, гонит соки вверх по каждому отдельному древу — человека, деревни, леса или поля, — в своем пространстве и времени. А мысль, едва вывернется из установлений порядка, а она вырывается все время, тут же и посмешает это все, так что какой-то М. и какая-то Н., которые и знать-то друг друга не знают, а может быть и жили-то в разные времена, и о которых положено и думать порознь, вдруг просверкнут друг через друга в мысли, даже в домысли, в чувстве, в ощущении, а брейгелевская цепочка слепых явно обернется музыкальной фразой. И нечто научное, популяризаторское — эйнштейновский жук, например, — отзовется личным, тайным, сокровенным: бедный жук, он никогда не осознает кривизны, он всегда будет, как я, мучиться, ползти и не знать, в каком мире ползет он, не столько отталкиваясь, сколько цепляясь, чтобы не оторваться!