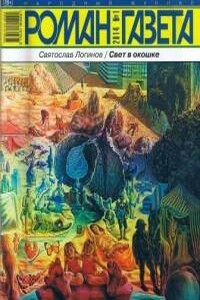Синяя тень | страница 21
Девки Полинку дразнили Евсюком: «твой» да «твой» — и она, до густой красноты, падающей на лицо, уши, шею, даже плечи, сердилась и обижалась. До слез даже. Сначала злилась, зачем пишут к ней, большой и дородной, этого недомерка, молчуна и смолюна: сам чинит какие-нибудь часы, а цигарки одну от другой прикуривает — от дыма в горле свербит! Потом уже злило, что его к ней пишут, а он и не взглянет на нее, лишнего слова не скажет. Уже и томил он ее, пыхало от него жаром, идет она на него, вроде как не замечает — он посторонится, в стенку вожмется, чтобы только она не задела его.
Стала она совсем уже дерганая и невыносимо придиралась: развел-де в их доме — не в своем небось! — часовую мастерскую, уже не только у них все часы перечинил, а и соседи несут к нему неисправное, и он, как истукан, другой раз и с места не встанет, пока не починит, а если его уже выставят, что отдыхать пора, он и с порога еще оглядывается на часы, и как освободится, к ним пораньше, опять за часы, а в доме места и так-то мало. Схватится Полинка полы мыть и все норовит на него плеснуть или тряпкой задеть. Родня выговаривает ей и смеется: «Чего ты его со свету сживаешь — выходи замуж, если невтерпеж» — и она пуще того злится: «За кого? За эту мелкоту? Рядом с ним и каблуков не наденешь — как раз под мышкой уместится!»
Вышла же замуж за него как-то скоро, и все в слезах. Выслушала его молча и даже не глядела на него. К свадьбе наряжали — плакала. И даже за свадебным столом ударилась в слезы: смахнула рукавом тарелку со стола — и все, как река пролилась.
— Хорошая примета, — не то о разбитой тарелке, не то о слезах толковали гости, — добрая примета: и жить справно будут, и дети посыпятся.
А Никанор Иванович с пьяной отцовской гордостью объяснял соседу:
— Вскидлива девка, ничего не скажу: одно, что посуду бьет; обратно же… — но что обратно, все как-то забывал выразить…
Всей улицей, как принято было в Нахаловке, — так назывался район раньше, теперь же это был Город-сад, — сложили молодым Евсюкам дом. Вдвоем — рука об руку — они и вошли в него.
А дети, и правда, посыпались — да все сыкушки, хоть бы один сын. В доме писк, рев, шлепки, крик, всё вверх тормашками, где попало и как попало. Полина хваталась сразу за все, бросала одно, бежала к другому, забывая мусор посреди комнаты, кипящее — на плите. Тесто перекисало, дети вываливались из люлек, прищемлялись в дверях, каши пригорали, одно пересаливалось, другое вообще несолено оказывалось, веревки с бельем обрывались, соленье прокисало. Евсюка жалели: спокойный мужик, а в какой ад попал.