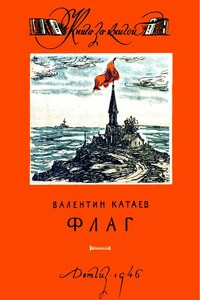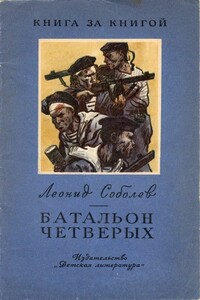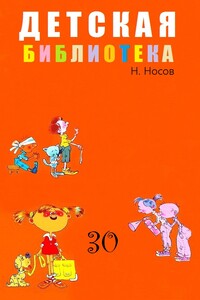Аракуш | страница 3
У кого мог я, девятилетний, покупать голубей? Всё у тех же, конечно, пушкарей и стрельцов; и когда я пытался тоже воинственно размахивать шестом на своей крыше и свистать в два пальца, мои голуби исправно летели на свои старые голубятни.
С голубями у меня не вышло, зато тем сильнее пристрастился я к синицам, щеглам, перепёлкам, которых кто же мог у меня отбить?
Прошло много лет с того времени… Кажется, четверть века уж я не видал берёзок, осинок, ёлок. Теперь они представляются мне в каком-то неразборчивом тумане, как на картинах Клода Моне[1].
Тогда ходил я с Авдеичем осенью именно в эти берёзки, осинки, ёлки с западками[2] и лучками[3] ловить глушек, гаек, лозиновок.
Время смыло, конечно, все яркие краски с тех переживаний, но какое всё-таки невнятно-радостнозвенящее осталось в памяти!.. Не передашь, ни за что не передашь!..
Сухими и тёплыми ещё осенними утрами, когда воздух гуще и земля строже и виднее чернобыл[4] на межах[5], когда ближе к опушке придвигались черноголовые монашейки-монашенки-гайкии глушки с сизыми щёчками, но тоже в чёрных шлычках, и синицы-лазоревки, очень длиннохвостые, белые с лазурью, пушистые, торжественно наряжённые, как на свадьбу или на бал, — так было неслыханно-радостно проснуться в воскресенье на самой заре, чуть щели покажутся в ставнях, кое-как одеться, захватить то, что приготовлено ещё с вечера, выскользнуть из дому так, чтобы и не разбудить никого, и потом, по сонной ещё улице, бежать к Авдеичу, постучать в его окошко с надворья и услышать отчётистое:
— Че-час!
А не больше чем через час мы с ним в лесу.
Души детей, как и души художников, — очарованные души; но когда я в лесу осеннем, в желтизне, в запахах листьев спелых, в прощальной грусти светлой не мог воздержаться от крика, чтобы вызвать эхо, Авдеич глядел на меня глазами строгого пекинского селезня:
— Ты ж это что, а?.. В класс пришёл?
И я смирялся.
Авдеич никогда не мигал веками… Рассмешить его ничем было нельзя, рассердить нельзя, удивить нельзя и напугать нельзя: окаменелость на шмыгающих ногах и с односложным разговором.
Водки он не пил.
Потому, что против моего увлечения птицами и Авдеичем ничего не имел мой отец, я думаю, что и отец его знал, хоть у нас в доме я никогда не видал Авдеича.
Авдеич был свой: пушкарский-то пушкарский, но в то же время лесной, значит, ничей; я, девятилетний, был тоже свой: домашний-то домашний, но в то же время слишком влюблённый в небо, и в поле, и в лес, — значит, тоже ничей. Это меня с ним сближало — малого со старым.