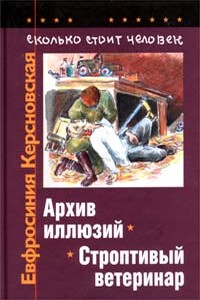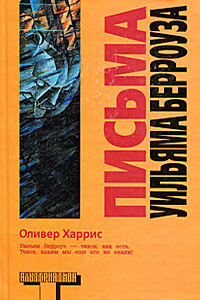«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке | страница 15
Крестьян жило там около пятисот, главным образом, потомки бывших поселенцев и ссыльных из европейской части страны и немногочисленные православные буряты. Почти все местные говорили на двух языках – русском и бурятском. Новаковский высказывает оригинальные суждения (быть может, не совсем безосновательные?): «Поселенцами были, вероятно, жители краев, прежде относившихся к Польше; безусловным доказательством может служить то, что обитатели этой деревни по сей день сохранили обычай носить белые рубашки с разрезом посередине, у шеи, тогда как по всей России носят цветные рубашки с разрезом у плеча». Позже сюда высылали также преступников и бывших солдат. Жители тогдашней Тунки занимались земледелием и скотоводством: «сеют рожь, пшеницу (яровую), ячмень, овес; о гречихе и просе едва слышали; горох только сахарный знают. В огородах сажают картошку, капусту, свеклу, морковь, репу; огурцы хотя иногда и сажают, но вызревают они редко».
В Тунке была одна главная улица, деревянные, из лиственницы или кедра, дома (сегодня застройка деревни по-прежнему деревянная) окружены заборами, рядом с домами – огороды и выгоны для скота, но иначе, чем в Польше – без деревьев и кустов.
«Дома в этой деревне некоторые вполне приличные, – вспоминал Наркевич, – стоят на расстоянии друг от друга, потому что при каждом огород, а при некоторых даже обширные выгоны, где зимуют на разбросанном сене скот и лошади, а стойл и коровников местные жители не знают». Имелась еще вторая улица (в той части деревни, которая называлась Россия), тогда нежилая, состоявшая примерно из сотни домов, которые власти выстроили, предполагая заселить их бывшими ссыльными, солдатами или бродягами, «но когда те из них сбежали, все эти домики опустели. Кто что мог и хотел, оттуда по забирал; один – двери, другой – окна, пол, кирпичи из печной кладки; даже доски с крыш ободрали», – писал Новаковский.
Над деревней возвышались две церкви: одна «красивая», каменная, принадлежавшая крестьянам, вторая – деревянная, казачья. Было также несколько «лавочек» «с товарами европейскими и китайскими». Деревянная Николаевская церковь стояла на краю деревни, на берегу Иркута, близ казачьей станицы, рядом находилось деревенское кладбище. Каменный храм возвышался посреди деревни («Покровская церковь» стоит в Тунке по сей день). Ксендз Станислав Матрась вспоминал, что в те времена священником в главной церкви был поп Павел, а в казачьей – какой-то «благочинный» (настоятель), которого сменил после его смерти Иоанн Попов, сын архиерея Амурской епархии.