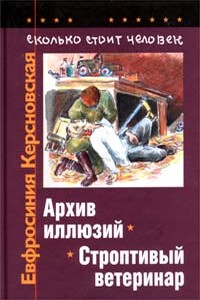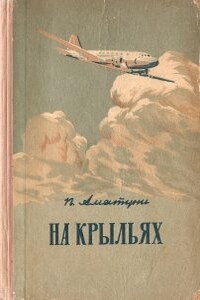«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке | страница 16
Климат в Тунке и Тункинской долине был суровый, зимой морозы достигали сорока градусов, но не слишком докучали, поскольку при таких низких температурах отсутствовал ветер. В деревне «всегда мало снега и редко можно было ездить на санях […], хотя примерно в двадцати верстах его полно», – вспоминал ксендз Наркевич. Особенно в окрестных горах снега выпадало много. После зимы быстро наступало жаркое лето, а после лета – долгая зима; весна и осень здесь очень короткие. «В мае морозы внезапно прекращаются и под действием солнечных лучей моментально вылезает трава; деревья тут же покрываются листвой – вот и лето без весны; почти так же внезапен переход от лета к зиме, без осени». «[…] весны тут почти нет, – писал в марте 1868 года другой священник, – сразу жара и лето. Оно быстро проходит – и вновь долгая зима. У нас [в Польше] иначе и лучше…» В тункинских степях бывали также «не ветры, а безумные смерчи, подхватывавшие все легкие предметы и уносившие по Туранской котловине в Монголию».
В среде светских сибирских ссыльных считалось, что, с точки зрения климата, Тунка – одно из лучших мест для поселения. Однако мало кто из священников с этим соглашался, полагая, что власти умышленно выбрали в Сибири самый страшный угол, чтобы усугубить их мучения. «Ничто, таким образом, не свидетельствует о том, что климат здесь здоровый, – характеризовал Тунку Новаковский. – Напротив, кожа у всех жителей увядшая, румянец на лице отсутствует, болезни (цинга, золотуха, скарлатина, перемежающаяся лихорадка, эпидемии тифа) не прекращаются, словом, все говорит о том, что поселение это, выросшее на месте прежнего озера, на заболоченных почвах, гнилое, а следовательно, и воздух здесь весьма нездоров». Затем он рассуждает о множестве озер, бездонных топях и болотных испарениях. «Среди огромных и страшных ущелий, сырой земли, тундры и вонючих болот лежит большая, раскинувшаяся по нескольким холмам, населенная дикими бурятами, злосчастная деревня Тунка», – писал в 1877 году в галицийской газете «Вядомосци Косцельне» («Костельные ведомости») товарищ Новаковского по Тунке, бернардинец Мелехович. Писалось это, конечно, с целью воздействовать на воображение читателя и возбудить в нем сострадание. Ксендз Миколай Куляшиньский из Люблинской епархии, который с любознательностью открывателя прошел часть долины, добравшись до границы с Монголией, рассказывал о целебных свойствах разбросанных по всей долине минеральных, в том числе теплых вод.