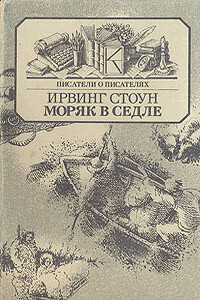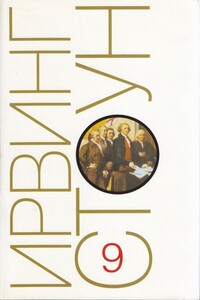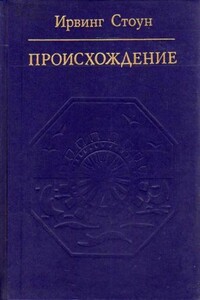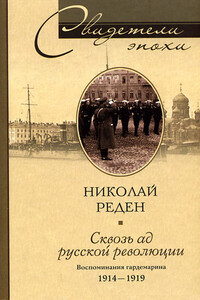Жажда жизни: Повесть о Винсенте Ван Гоге | страница 12
Теодор всегда сокрушался по поводу того, что его старший сын не пошел по стопам отца. Однажды вечером, возвращаясь от больного крестьянина, оба они слезли с повозки и пошли пешком. За соснами садилось красное солнце, вечернее небо отражалось в лужах, сизый вереск и желтый песок чудесно оттеняли друг друга.
— Мой отец был священником, Винсент, и я всегда считал, что ты тоже пойдешь по этому пути.
— Ты, кажется, думаешь, что я хочу бросить свое теперешнее занятие?
— Я говорю это на тот случай, если ты все же решишься… Ведь ты мог бы жить в Амстердаме у дяди Яна и учиться в университете. А преподобный Стриккер готов руководить твоим образованием.
— Ты советуешь мне уйти от Гупиля?
— Нет. Конечно, нет. Но если тебе там плохо… Ведь все меняется…
— Само собой. Но я не собираюсь уходить от Гупиля.
Провожать его на станцию Бреда поехали оба — отец и мать.
— Тебе писать по тому же адресу, Винсент? — спросила Анна-Корнелия.
— Нет. Я переезжаю.
— Я очень рад, что ты не будешь жить у Луайе, — вставил отец. — Эта семейка мне никогда не нравилась. Слишком много у них всяких секретов.
Винсент помрачнел. Мать положила свою теплую ладонь на его руку и ласково сказала, так, чтобы не слышал Теодор:
— Не печалься, мой дорогой. С хорошей голландской девушкой тебе будет лучше, — надо только подождать, пока ты как следует устроишься. Она не принесет тебе счастья, эта Урсула. Это не твоего поля ягода.
«И откуда только мать все знает?» — удивился он.
6
Приехав в Лондон, он снял меблированную комнату на Кенсингтон Нью—роуд. Хозяйка — маленькая старушка — ложилась спать в восемь часов. В доме царила мертвая тишина. И каждый вечер, борясь с собой, он жестоко страдал, его мучительно тянуло к Луайе. Он запирал дверь и решительно говорил себе, что будет спать. А через пятнадцать минут он непостижимым образом оказывался на улице и торопливо шагал к Урсуле.
Подходя к ее дому, он уже как бы ощущал ее присутствие. Это была истинная пытка — чувствовать, что она тут, рядом, и все же недосягаема, но еще хуже было сидеть дома и не коснуться хотя бы ее тени, не ощутить ее незримого присутствия.
Оттого, что он страдал, с ним происходили странные вещи. Он сделался чувствительным к страданиям других. Он стал нетерпим ко всему тому, что было фальшиво, крикливо-аляповато и что находило широкий сбыт. В магазине от него уже не было пользы. Когда покупатели спрашивали, что он думает о той или другой гравюре, он без обиняков говорил, что это просто ужасно, и покупатели уходили, ничего не взяв. Жизненность и эмоциональную глубину он находил лишь там, где художник изображал страдание.