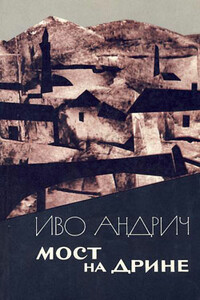Долина павших | страница 18
Полотно же, изображенное на картине, — исповедь самого Гойи. Этой оргией, где он — один с двумя женщинами, глухой художник провозглашает себя человеком, которому ничто человеческое не чуждо. Гойя не обличает увековеченное им стадо безобразно-комических персонажей, ибо считает себя не лучше и не хуже любого из них. Он прекрасно знает, что подобная оргия принесла сифилис, который грызет его изнутри, лишил слуха и изничтожил четверых его детей. И свою вину, вину Сатурна, он первой показывает на этом Страшном суде, на холсте «Семья Карлоса IV», который являет собой благороднейший документ XVIII века. Страшный суд над живыми куда более страшен, нежели суд Микеланджело над мертвецами, как утверждает Рамон Гомес де ла Серна[11]. В книге, написанной полтора века спустя и теперь уже забытой, мы читаем: «Глазами Гойи мы должны увидеть себя в его демонах и в его королях, как в двух залах ожидания, где мы ждем приговора судьбы. Этические заветы Гойи раскрываются нам ежедневно вместе с дверями музея Прадо. И основа основ насущной, но пока еще не понятой диалектики, которая может стать последним спасением для человека, такова: „Возлюби ближнего своего, чудовище, как самого себя“».
16 марта 1828 года
И Его величество король Фернандо VII сказал мне:
— Что полагаешь ты счастьем на этой земле?
— Умереть прежде моего сына Хавьера, — ответил я не задумываясь. — Четверых других мы похоронили вместе с женой, а потом я схоронил и ее в голодные дни, во время войны. Этого сына я не хочу терять.
Он засмеялся, не выпуская изо рта зажженной сигары, которую сжимал желтыми, как у ягненка, зубами. Ему было около сорока, а может, и все сорок. Только начав его писать в последний раз, я до конца понял, как неправильно его лицо, как велики челюсти и какое оно щекастое и бесформенное под широкими черными бровями. Однако глаза, чуточку, пожалуй, косившие, излучали далеко не тупое коварство. Этот человек, как никто иной, был любим и ненавидим в своей стране, что всегда разъяряется, когда приходит час убивать или плодить себе подобных. И я подумал: должно быть, он мог в равной мере гордиться нашей любовью и нашей ненавистью. Он сам почти признался мне в этом вчера вечером, когда я закончил его портрет. А потом сказал: «Ты был предателем, спелся с французами во время французской кампании. Я тебя простил, тому назад двенадцать лет, как простил и на этот раз, узнав, что ты вернулся из ссылки, потому что ты выше Веласкеса. Завтра опять приходи во дворец, будешь ужинать со мной наедине».