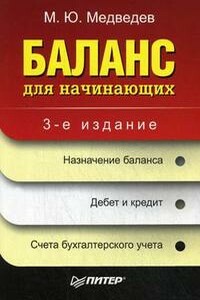Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России | страница 14
Екатерина II искала, скорее, рациональные обоснования незыблемости самодержавия (вспомним строку «Наказа» Уложенной комиссии: «…всякое иное правление, кроме самодержавного, для России по обширности пространств ее было бы не только вредно, но вконец разорительно»).[14] Павел же пошел по пути поиска моральных обоснований абсолютной власти. Он расстался с возможностью выдавать ее за спасительное для всех и при том «мягкое» правление, позволил себе открыто заявить о необходимости полицейских форм управления, изощренного и неприкрытого охранительства в идеологии. Его преемник Александр I, полностью сохранив полицейскую сущность самодержавия, как известно, безуспешно пытался совместить с нею идеологию и практику правительственного либерализма.[15] Однако, бабушкиной легкости обращения с либеральными институтами в теории пора было противопоставить их практическую либерализацию, вплоть до самоограничения самодержавия конституционным органом. Невыполнимостью поставленной перед собой задачи совместить несовместимое (самодержавие и конституцию) Александр I обязан прочно усвоенной традиции отца: если нужно удержать власть (а делиться реально Александр ею не хотел), то не нужно бояться быть деспотом. «Аракчеевская» линия в политике Александра по существу — павловская линия: так похожи на павловские крутые распоряжения многие объективно реакционные и тоже торопливые акции Александра в последние годы правления. Но и в конце его царствования военно-бюрократический идеал Павла I: послушная, точная и отрегулированная государственная машина — не был воплощен. Каждое следующее царствование, не затрагивая идеала, вносило кое-какие усовершенствования в конструкцию, а государственная мощь самодержавия становилась все призрачнее.
Павлу I, безусловно, удалось надолго привить самодержавию определенные моральные нормы «державного» поведения. Двор решительно порывает с состоянием «повреждения нравов», несовместимого с ритуализацией самодержавия как обряда «служения». Среди павловичей и их потомков отныне культивируется «семейственность», а бракоразводные ситуации воспринимаются чуть ли не как государственные проступки. Аморальные стороны жизни двора скрываются внешним приличием. Так, «затворник» Александр I заводит любовниц как частный человек. На это, как и на «похождения» Николая I, можно было смотреть сквозь пальцы — это теперь стояло вне политики и не наносило урона соблюденной «семейственности». Любовницы и любовники царственных особ не играли ровно никакой роли на театре «большой политики». Первым из Романовых, отделившим личную жизнь от политики и государства, был именно Павел. Не оттого ли историки бьются над загадкой «платонизма» отношений его с Нелидовой, Лопухиной, другими дамами, что современники не видели во всем этом «государственного» оскорбления царского величия и обряда царствования, перестали придавать амурным делам самодержцев былое значение.