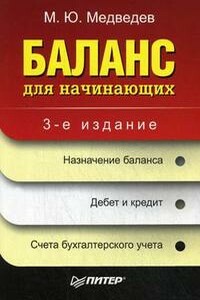Император Павел Первый и Орден св. Иоанна Иерусалимского в России | страница 13
Ю. Д. Марголис, Т. Н. Жуковская
Традиции Павла I в истории русской государственности
Признанный знаток «грани веков» — XVIII и XIX — профессор С. Б. Окунь в своих университетских лекциях всякий раз замечал, что в политических зигзагах и в «сумасшествии» Павла I слишком много системы и логики, чтобы относить их на счет «патологии», а не политологии.[12] Эту мысль следовало бы усилить, так как традиции Павла I явственно прослеживаются в развитии русской государственности, в то время как специальное их изучение все еще нередко подменяется анекдотическими характеристиками императора и его деяний.
Попытаемся взглянуть на те сферы государственного и социального бытия России, которые подверглись наиболее радикальному и целенаправленному вмешательству в павловское правление и сохранили или еще более усилили сообщенный им решительной рукой облик.
Екатерине II не требовалась идеология как необходимая опора властвования, точнее, не воспользовалась она идеологией охранительной. Екатерина еще могла допустить циничное обращение с традицией, соперниками, лживое «философствование» и фальсификацию Просвещения, замену «лиц» в системе администрации фаворитами. Вся эта практика государственного цинизма удавалась в силу отсутствия реального общественного договора между властью и подданными, отсутствия общественной силы, способной предъявить власти счет «злоупотреблениям» и потребовать гарантий того «общественного блага», о котором так много рассуждала императрица, особенно в начале правления. Словом, не было общества в главном его понимании — «второй силы», конкурирующей с безраздельной силой государства.
Общество рождается там и тогда, где и когда покорный подданный осознает себя личностью в кругу подобных себе. Павел I резко ускорил этот процесс общественной консолидации; по существу в час всеобщего торжества в столице по случаю его смерти рождалось общественное мнение.[13] Но не этот результат был «запрограммирован» императором, взявшимся сознательно идеологизировать взаимоотношения подданных и государства.
Павел I сделал стержнем отношений между государством и личностью службу, возведя «служение» не только в обязанность (несмотря на никем не отмененную Жалованную грамоту дворянству), но и в культ. Его собственное «рыцарственное» отношение к соблюдению мелочей должности распространялось, разумеется, и на «должность» государя. Каждым жестом император утверждал священную для него идею службы. Это отношение к собственной роли и «должности» заметно у Александра I и у Николая I. Грубая натурализация царствования-служения в образе Петра I, царя-мастерового, теперь значительно осложняется этикетом и идеологией. И действительно, идеология самодержавия как общественно-полезного «служения» на продолжительное время обеспечила прочность власти как таковой, независимо от трагической судьбы самого Павла. Служба государю как высшая ценность подчеркивалась все более жесткой системой чинов и условиями чинопроизводства.