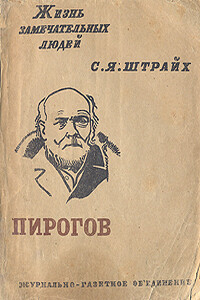Владислав Стржельчик | страница 38
Герой его как бы погружался в себя, дабы проследить этапы своего падения, ощутить дистанцию между тем, чем он был и чем стал. И, почувствовав всю глубину перерождения, содрогнуться и возродиться вновь.
Была эстетическая логика в том, чтобы именно Стржельчик сыграл роль Четвертого, сыграл после Цыганова, сосредоточив все средства актерской выразительности на зримом выявлении внутренней драмы героя. В Четвертом Стржельчику представилась возможность досказать, договорить открытым текстом то, что в Цыганове жило подтекстно, подспудно, как предчувствие некоего всеобщего неблагополучия, как образ предгрозовой атмосферы. Но именно такая «открытость», обнаженность приема и была противопоказана актеру, его театральному традиционализму, чуждому любым проявлениям публицистичности.
Впервые ощутив себя в «Варварах» в коллизиях «всеобщей» драмы, впервые ощутив себя в «системе» и содержательно и формально, Стржельчик вновь оказался вырванным из этой «системы» и в буквальном смысле вынесенным на авансцену: его герой раскрывается в воображаемом диалоге с погибшими друзьями, по законам публицистики он должен все время работать «на зал». Художник, недавно освободившийся от штампов театральной условности, почувствовавший жизнь на сцене, вновь возвращался к условности, пусть и не традиционной, но все же склонной к схематизму и своего рода декларативности.
Деликатность ситуации понимали, по-видимому, и критики, которые отзывались об игре Стржельчика в «Четвертом» с преувеличенным почтением: «Эта роль трудна и едва ли благодарна. Имеется нравственная ситуация, но конкретный характер недописан автором. В. Стржельчик превосходен в тихие минуты, когда едва заметным дрожанием руки передает волнение, испуг, растерянность героя или немым взглядом молит о жалости. Но порой, усиливая экспрессию игры или подчеркивая угнетенность героя, он теряет правдивость»[27]. Однако дело было даже не в мелодраматических тонах, окрасивших работу актера (таких неожиданных после его исполнения Цыганова), а в том, что задуманного автором перелома в сознании героя Стржельчика не происходило. В отличие от героя, сыгранного Ефремовым в спектакле театра «Современник», Четвертый Стржельчика был полностью поглощен своим прошлым. И во всех статьях, оценивающих постановку БДТ, чувствуется вопрос, который впрямую задал рецензент газеты «Московская правда»: «Не сдрейфит ли Он в последний момент в Париже?»[28] То есть в игре Стржельчика возрождения не получалось. Процесс был необратимым, сбросить груз послевоенной «благополучной» жизни, груз компромиссов, разочарований, усталости его герою не удавалось.