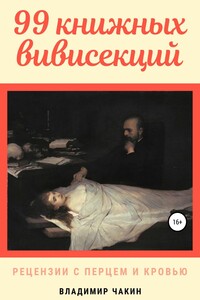Достоверность характера | страница 21
Некоторых больше всего смутил финал повести: как так, вроде бы война вступила в победную для нас фазу, и вдруг такой трагический финал. Да, война вступила в победную для нас фазу, но оттого она не стала менее кровопролитной — впереди еще миллионы смертей. Гибнет и рота старшего лейтенанта Ананьева. В повести показаны разные характеры, но показано и их единство, которое выражается в единстве их совокупной воли. По собственной инициативе рота идет в первую атаку, по собственной воле она идет и в свою последнюю атаку. Главное, что рота сама ищет встречи с противником, ищет боя, в каждом сидит тот азарт схватки с врагом, личный азарт, который и рождает общий наступательный порыв армии. Гибель роты Ананьева — это частность. Но вот инициативный наступательный дух — это уже не частность, а та доминирующая философия времени, что одинаково может раскрыться как в блистательной победе, так и в отдельном поражении.
Рота Ананьева замечательна тем, что в ней этот дух царит безраздельно. И заслуга в том командира роты, умеющего в каждом своем подчиненном поддержать чувство инициативы, заразить чувством азарта. Ананьев не только управляет действиями солдат и командиров своего подразделения, главное, он управляет общим их настроением, а это уже значительно большее искусство, нежели умение толково распорядиться подчиненными согласно предписаниям боевого устава. Если мы внимательно приглядимся к этому образу, то обнаружим глубокую психологическую его разработку. Правда, В. Быков почти не погружает нас в мир внутренних переживаний своих героев, но, выстраивая целую цепь поступков, он как бы обозначает посредством их своего рода пунктир, за которым легко угадывается весь контур психологического состояния, а каждый поступок закономерно вытекает из предшествующих, строго согласуясь с логикой развития характера, постоянно подвергающегося воздействию все новых и новых обстоятельств. Вот это своеобразие художественного метода писателя, к сожалению, не встретило в свое время должного понимания.
4
А. Адамович, анализируя повести В. Быкова, пришел к весьма неожиданному выводу. «Чего нет в этих повестях (вплоть до «Сотникова»),— пишет он,— так это самосуда, «самоказни» (употребляя слово Достоевского) таких людей или хотя бы сложного психологического процесса самооправдания».
К сожалению, при всей доброжелательности А. Адамович подошел к произведениям В. Быкова с уже отработанными литературоведческими мерками. Нет, В. Быков не опровергает и не отвергает художественного метода Достоевского, напротив, он довольно последователен в своей верности этому методу. При невнимательном прочтении повестей Быкова действительно как-то трудно сразу обнаружить общее между творческими методами этих двух писателей. Герои Достоевского не то чтобы выстрадывают поступки, а прямо-таки вымучивают их. Любое право выбора приводит их к долгому нравственному замешательству. И недаром Великий Инквизитор говорит: «Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее».