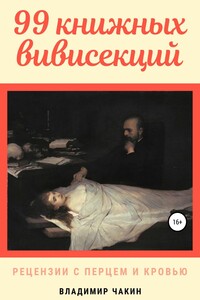Достоверность характера | страница 22
Некто Раскольников намеревается убить старуху, и он довольно долго внутренне себя к этому готовит. Убийство совершено, и теперь Раскольников занимается столь же мучительно самосудом, а если употребить слово самого Достоевского — «самоказнью».
Некто Бритвин («Круглянский мост») в числе других партизан идет на выполнение задания. Операция срывается, вдобавок гибнет командир группы. Бритвин берет инициативу в свои руки. Он обманывает доверие подвернувшегося подростка (сына полицая) и взрывает мост принеся в жертву этого подростка. (Вспомним Достоевского с его «слезинкой ребенка».) Молодой партизан Степка Толкач тоже принимал участие в этой операции, но он не был посвящен в ее «детали». Когда же до Степки дошел смысл этих чудовищных «деталей», он схватился с Бритвиным, и в результате дело дошло до применения оружия.
Казалось бы, здесь никаким краем не присутствует мотив самосуда, «самоказни»: в течение нескольких часов происходит целый ряд действенных поступков, и за каждым из них стоят нравственные человеческие структуры, устойчивость которых вроде бы не предполагает проблемы нравственного выбора. Однако при всей внешней простоте (отчетливость сюжета и ситуаций, обыденность содержания диалогов, лексический и синтаксический строй авторской речи и т. д.) быковские произведения обладают такой емкостью внутреннего содержания, такой философской глубиной и взаимообусловленностью всех художественных компонентов, что для правильного их понимания беглого чтения недостаточно.
Возьмем хотя бы такой компонент, как композиция. Вторая глава повести начинается фразой: «Срубив несколько ольховых жердей, Степка возвращался на кухню», а предпоследняя глава заканчивается фразой: «Степку со связанными руками пригнал под автоматом Данила». Между этими двумя фразами и укладывается все содержание повести. В первой же главе и последней показывается пребывание Степки на партизанской гауптвахте после того, как его «пригнал под автоматом Данила». По сути дела, первая и последняя главы — это одна, заключающая повествование, глава, разорванная на две части. Вообще-то, можно было, не меняя ни одного слова, упростить композицию, начав повествование прямо со второй главы, а первую главу объединить с последней. Но это было бы уже совсем другое произведение.
Упрости автор композицию, на первый план выдвинулась бы событийная сторона повествования. При настоящей же композиции на первый план выдвигается именно проблема нравственного самосуда, и удивительно, как этого не заметил А. Адамович.