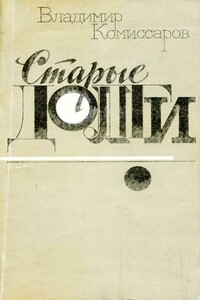В канун бабьего лета | страница 43
Но, как назло, один серый и ничем не приметный день сменял другой без крика, без выстрелов… Прогремит, пробуйствует где-то разудалая компания, покричит пьяно песни и утихнет. Погомонят вечерами у плетней соседи — и опять все стихает до утра.
Назарьев попервости молчаливо и придирчиво обглядывал молодую жену, обвыкался в новом положении женатого. Оставаясь иной раз дома наедине с Пелагеей, ненадолго осваивался, жена казалась даже вполне ладной и статной — большие глаза, высокий лоб, густые волосы, завязанные на затылке в тугой узел. Ему хотелось погладить ее, пожалеть. Нравилось в Пелагее смирение, ее виноватые и добрые глаза, готовность всегда угодить мужу. Была заметна в ней радость, оттого что попала в невестки богатого дома, это чувствовалось во взгляде, в голосе, в мягкой покорности и доверчивости.
Щи она варила вкусные, наваристые, так же как и мать, заправляла их старым салом, лавровым листом и укропом. В комнатах куреня появились цветы. Испокон века их не было в комнатах и на базу. Домашние с удивлением поглядывали на новшество, но цветы выкидывать не посмели.
Захмелев, отец однажды не шутя пригрозил сыну:
— Вижу, жена тебе не в совесть. На сторону поглядываешь. Не будешь жить с Пелагеей, пойдешь против моей воли, лишу всего, что тебе надлежит взять после моей смерти. Продам, прогуляю.
Дед тихо добавил:
— Ты, Игнат, на отца молиться должон. Из могилы тебя вызволил. Как-то захворал ты парнишонком. Посипел, глаза под лоб подкатил. Отец выпросил у атамана резвых коней и понесся с тобою в Новочеркасск к лучшим докторам.
Отец — злой. Мать страшится его косого взгляда. Если идет с ним по станице, то на шаг позади, чтоб видно было — почитает жена мужа и боится.
Как-то поехал Игнат с отцом за сеном. Взноровилась молодая необученная кобылка. Отец в кровь искусал ей уши, кричал так, что пузырился его окровавленный рот. Потом сек кобылку до тех пор, пока она, брыкаясь, не сломала оглоблю. Плюнул отец, швырнул в траву кнут и ушел.
Не угоди ему — в приступе злости сделает все, что взбредет ему в голову. Прогнать может. А потом — куда? Игнат не знал, что говорить жене, как ее ласкать? Да и нужно ли это? Эх, с Любавою-то небось все было бы понятно. На людях Игнат сравнивал жену с другими хуторянками, и Пелагея выглядела дурнушкой. Бросались в глаза крупные руки, сутуловатая спина. «Черт те что… — удивлялся Игнат, сравнивая ее со старшей. — Будто от разных матерей дочери. Стало быть, кто-то в роду дурной был». На второй неделе жизни в назарьевском курене Пелагея вдруг в лице изменилась — побагровели щеки и шея, распухли мочки ушей — хотела мужу угодить, понравиться и нацепила выменянные за комок масла у цыганки красивые сережки. Спала она неделю в кухне-летнице, не показываясь мужу на глаза.