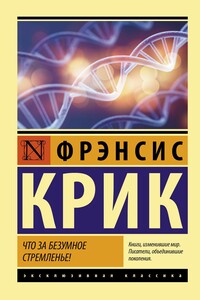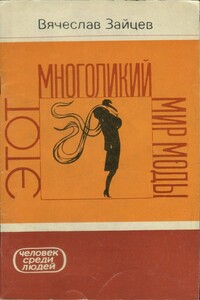Буддизм в русской литературе конца XIX – начала XX века: идеи и реминисценции | страница 25
При всей устремленности героев Бунина к жизни, в его произведениях присутствует особое, поразительно близкое буддийскому, понимание ее трагичности. Общая трагедия человеческой жизни раскрывается не в совокупности индивидуальных трагедий, не в личных коллизиях частных жизней – а в бесконечной их повторяемости, в бесконечной Цепи, состоящей из множества звеньев – человеческих судеб. Трагически заканчивается любовь героев Бунина, трагически заканчивается их жизнь. И дело не в конкретных событиях и обстоятельствах их судеб, а в том, что это происходит и будет происходить в жизни каждого, кто находится в Цепи, в кругу вечного повторения.
Вот мучимый любовью и ревностью капитан – герой рассказа «Сны Чанга»: «Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? – спросил он. – Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному – от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации!.. Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать – тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему!»[102]
Любовь, привязанность, страдания теряют и заново обретают свою «вещественную» выраженность. Вот и герои рассказа «В ночном море» едва вспоминают женщину, давшую им столько света, память сохранила даже не ее образ, а только отблеск: «Пассажир с прямыми плечами спросил: