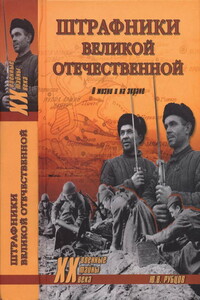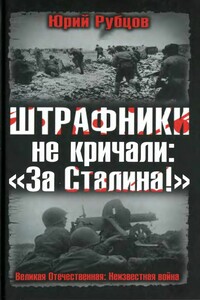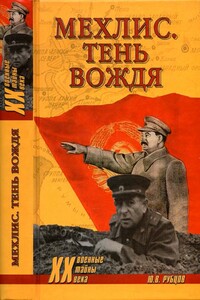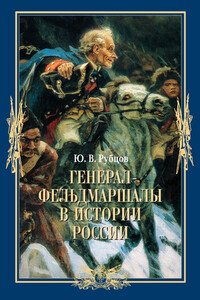Сталинские маршалы в жерновах политики | страница 5
Даже факты лишения высшего воинского звания, полученного явно незаслуженно, были не попыткой восстановить строгий порядок, а местью за верность прежнему хозяину или за измену хозяину новому. В полной мере это относится и к Г.И. Кулику, которому режим прощал крупнейшие провалы в профессиональной деятельности, но не простил нелояльности к вождю; и к Берии, низвергнутому с политического Олимпа спустя несколько месяцев после смерти Сталина; и к Булганину, активному члену антихрущевской группировки, разгромленной на июньском 1957 г. пленуме ЦК КПСС.
Говоря о сталинской политической системе, мы имеем в виду не только время физической жизни вождя. Последующие поколения политических руководителей вольно и невольно наследовали многое из арсенала политики 1930-х — первой половины 1950-х гг. И при Н.С. Хрущеве, и при Л.И. Брежневе маршалов держали за важные, но все же подчиненные элементы механизма власти. Достаточно напомнить о судьбе Жукова, чья самостоятельность в политике настолько испугала «дорогого Никиту Сергеевича» и партаппарат, что они не остановились перед политическим расстрелом маршала Победы.
Не хотелось бы, чтобы у читателя создавалось впечатление о первой двадцатке советских маршалов лишь как о жертвах партийного всевластия. В конце концов, в коридорах власти каждый выбирал свою линию поведения. И для части высших военачальников правила игры, установленные вождем, пришлись более чем кстати при реализации их собственных амбиций.
В соответствии с политической установкой сталинские маршалы в абсолютном большинстве были выходцами из низов. О понятиях офицерской чести они знали понаслышке и чаще всего воспринимали их враждебно. Автор — против абсолютизации дворянской чести, нет смысла отрицать, что и среди офицеров и генералов императорской армии доставало и интриганов, и карьеристов. Но никакому офицерскому коллективу тогда не пришло бы даже в голову склонять человека в погонах к лжесвидетельствованию, к оговору, к клевете во имя неких «высших интересов партии». Публичное, бездоказательное шельмование боевых товарищей, ставшее не просто обычным, но обязательным делом в годы репрессий, было просто немыслимо при «старом режиме».
Иные фигуры, оказавшиеся на вершине советского военного Олимпа, даже бравировали своими невежеством, аморальностью, пресмыкательством перед тираном. Очень недостойно вел себя К.Е. Ворошилов. Презрев долг службы, он в страхе перед Сталиным без всякой проверки просто подмахивал бумаги на арест подчиненных, присылаемые из ведомства Ежова и Берии. Нарком обороны находил даже извинительные, с его точки зрения, мотивы: «Сейчас можно попасть в очень неприятную историю, — проговорился он в 1937 г., — отстаиваешь человека, будучи уверен, что он честный, а потом оказывается, он самый доподлинный враг, фашист». Не без злорадства кое-кто из маршалов наблюдал, как исчезают в костре репрессий самостоятельно мыслящие коллеги, а при случае и хворост в такой костер подбрасывал.