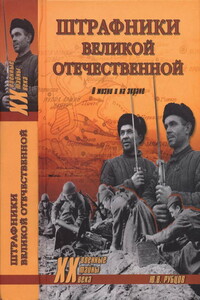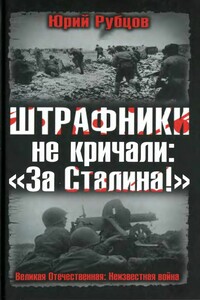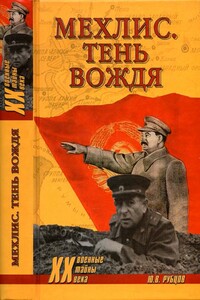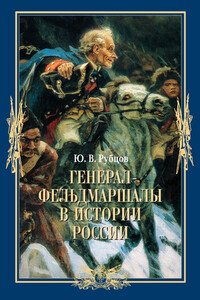Сталинские маршалы в жерновах политики | страница 6
Воистину, нет хуже князя, нежели из грязи.
Но и в одинаково сложных условиях люди вели себя по-разному. Порядочность, благородство, сострадание не для всех оказывались пустым звуком. В памяти сразу встает образ К.К. Рокоссовского. В ходе обсуждения в Ставке плана операции «Багратион» (по освобождению Белоруссии летом 1944 г.) он высказал несогласие с мнением Сталина. Тот дважды посылал маршала в соседнюю комнату «подумать» и изменить свою позицию. Но Константин Константинович настоял на своем и оказался прав. А ведь он не понаслышке знал, какая участь может ждать того, кто разгневает Верховного, ибо еще до войны по ложному обвинению отмучился три года в тюрьме.
Но большая политика мстила и таким чистым натурам. До сих пор Рокоссовский остается для многих поляков символом сталинского экспансионизма, хотя со времени его пребывания в Польше министром национальной обороны минуло больше полвека.
А другие маршалы? Увы, даже наиболее достойным из них не удавалось вписаться в политическую систему координат без нравственных потерь. Как топтали Жукова на октябрьском пленуме ЦК КПСС 1957 г. его давние сослуживцы! Партийным бонзам при желании можно было и не выходить на передний план, всю грязную работу по шельмованию виднейшего военачальника готовы были взять на себя боевые маршалы Великой Отечественной. Ладно бы репрессий они боялись, с готовностью подхватывая самые невероятные обвинения Хрущева и К° в адрес бывшего министра обороны. Но причина-то была до банального проста: сказывались двойная мораль, усвоенная ими еще с 1930-х гг., удобная привычка к эдакой партийной стадности — во всем считать себя «рядовым партии», линию поведения которого определит ЦК, а точнее — генеральный секретарь.
Добро и зло, благородство и подлость, проявление милости к «падшим» и публичная радость от краха еще вчера шедшего рядом — все перемешалось в судьбах сталинских маршалов.
«Совсем не случайно, что именам «красных маршалов» не сопутствует обильная литература… Кремлевский официальный «марксизм» не любит культа «военных героев» и исторических параллелей с французской революцией»[3]. Эти слова писателя-эмигранта Р. Гуля, относящиеся к 1930-м гг., оказались удивительно жизненными и для последующего хода событий. Лишь в последние полтора-два десятилетия о высшем командном составе нашей армии стало возможным сказать более открыто и откровенно [4].
В год 100-летия со дня создания Красной армии это надо сделать тем более.