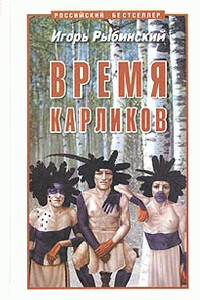Графиня Монте Карло | страница 10
— Хорошо, — неожиданно согласилась девушка, — возьму, если это и в самом деле недорого стоит.
— Да, копейки! — опять встрял Саша, — а нам вообще даром досталось.
Но та, когда увидела кейс, испугалась:
— Такой портфельчик не меньше двухсот долларов стоит.
Пришлось ее убеждать и уговаривать. Прощаясь, она наклонилась к старику, чтобы чмокнуть его в щеку, но в последний момент замерла и коснулась лишь его лица прядью своих русых волос. Дядя Костя вздрогнул, хотел даже удержать девушку, чтобы погладить по голове и сказать что-нибудь приятное, но пересилил себя, произнес только:
— Желаю удачи!
И не посмотрел даже, как она переходит дорогу. Через минуту, когда снова выехали на набережную Невы, старик вдруг сказал:
— Мы с отцом на крыше вагона едем куда-то. Это первое мое воспоминание, до этого нет ничего. Мне года три или чуть больше. Значит, это тридцать седьмой или тридцать восьмой год. Ничего не помню, что было до того, но та поездка в мою память вбита намертво. Мы едем, вероятно, из Сибири в Европу, по ночам уже холодно, я сплю на отцовском ватнике, и он прижимает меня к себе, накрывая при этом полой пиджака, приходится глотать паровозный дым, и его горечь до сих пор в моем горле. Днем вокруг золотые леса, на крышах вагонов много людей и какой-то мужчина сидит рядом с нами. Странно, но я помню только один момент, лучше всего и очень отчетливо, даже интонации его голоса:
— Эх, мальчик, хорошо бы было, когда б на деревьях деньги росли.
А отец режет черный хлеб, прижав каравай к груди, потом кладет на ломти куски розового сала и отвечает незнакомцу:
— Тогда бы люди расплачивались листочками с деревьев.
Мне это так врезалось в сознание, что уже потом, будучи в детском доме, я собирал на земле опавшие листья и заходил в лавки, протягивал продавщицам кленовый лист и говорил:
— Тетенька, продайте за листик конфетку.
Удивительно, но меня не гнали, и я даже приносил в детский дом кулек с каким-нибудь драже или жестяную коробочку монпансье.
— Дядя Костя, — прохрипел Саша, — а отец Ваш куда делся?
— Мы с ним не доехали до Ленинграда. На какой-то станции он пошел с котелком за водой, а потом я услышал крики, подполз к краю вагона и глянул вниз: мужчина во френче бил по щекам женщину; она не убегала, пыталась лишь прикрыть лицо руками. Голова моталась от ударов, губы женщины были разбиты, и из носа шла кровь. Она молчала, кричали лишь два ребенка: мальчик и девочка плакали и просили: «Дяденька, не бейте маму». А тот лупил ее с каким-то остервенением, после каждого удара мужчина повторял: «Воровка! Воровка!» Наконец женщина упала, и тогда я увидел, что рядом с ней лежит черный круглый хлеб. Мужчина во френче пнул буханку ногой, она отлетела в сторону и покатилась. Тогда этот гад пнул женщину: «Воровка!» Я заплакал от страха и сквозь слезы увидел отца, бегущего по насыпи, он подскочил к тому человеку и без замаха ударил его в подбородок. Тот отлетел на пару шагов и рухнул в какие-то кусты. Потом помню станцию, скамьи, из-за которых выглядывали испуганные люди. Отца раздели до кальсон, и несколько милиционеров лупили его сапогами. Его торс был покрыт татуировками. Мусора орали довольные: