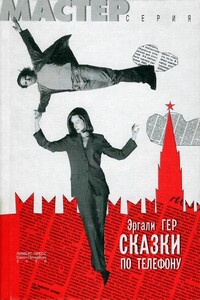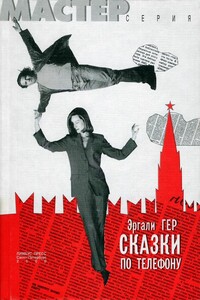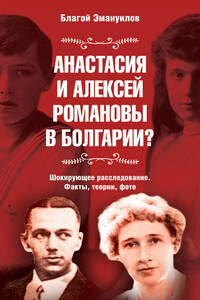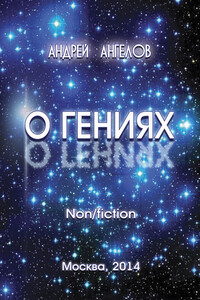Белорусское зеркало | страница 33
— Здесь жизнь идет по кругу, а не по спирали, — уверяет Митя. — Чем больше узнаешь о прошлом Мстиславля, тем отчетливей видишь, что люди живут точно так же, как сто, двести, триста лет назад. Мироощущение то же, несмотря на спутниковые антенны, мобильники и машины. Все это мелочи по сравнению с притяжением места…
Отобедав изумительным грибовником со сметаной, отправляемся купаться на речку. На главной площади застаем ритуальное воскресное собрание молодняка: в предвкушении “гопотеки” народ задумчиво клубится между магазином и памятником первопечатнику Петру Мстиславцу (ближайшему сподвижнику Ивана Федорова, между прочим). Думается мне все же, что сравнения с воскресными выходами в церковь — главным развлечением иных времен — нынешний ритуал не выдерживает как по форме, так и по содержанию. Лучше даже не сравнивать. Впрочем, и этот вывод в струю: здесь даже “гопотека” обращает нас лицом к прошлому. (“Гопотека” — надо полагать, от слова “гопак”; набравшись шику в своих Оршах да Могилевах, именно так именуют местную дискотеку молодые мстиславльцы.)
В конце ХIХ века здесь построили две “высотки” — два доходных дома в три этажа каждый. В народе их прозвали “Париж” и “Лондон”. Названия сохранились, хотя в последующие сто лет доходные дома деградировали в убогие коммуналки. Понятно, что обитатели “Парижа” и “Лондона” мечтали перебраться в частный сектор Мстиславля и на обыкновенные житейские расспросы земляков, мол, где ты живешь, с горечью отвечали: в “Лондоне”! в “Париже”!.. “М-да…” — сочувствовали горожане. Наконец, прошлой весной оба дома выкупили риэлторы, сделали евроремонт, и теперь на первом этаже одного из них красуется горделивая вывеска: “Париж. Парикмахерская”.
— Здесь все возвращается на круги своя, — резюмирует Пушкин, указывая на вывеску.
Сворачиваем в проулок. Из палисадников, свешиваясь через ограду, смотрят огромные рододендроны, тут даже окурка не бросишь под ноги, такая вокруг чистота в этом райцентре — и Боже мой, неужели мы всего в десяти километрах от матушки-России?! Даже не верится.
В кармелитском костеле, расположенном через овраг от Замковой горы, сохранились фрески на тему Страшного Суда. На фресках запечатлена осада Мстиславля русскими войсками под командованием князя Трубецкого, длившаяся с мая по июль 1654 года, и страшные сцены “трубецкой резни”, последовавшей за взятием города. “Учинивши штурм великий… и вынявши мечом людей шляхты, обывателей воеводства Мстиславльского и мещан и волощан и иншых розных поветовых людей не мало, которые збегли до осады, высек и все место и замок огнем выполил опустошил”, — вопиет летописец. Монахам-кармелитам рубили головы тут же, под белыми стенами только что возведенного костела. Из мужчин пощадили только искусников знаменитой мстиславльской школы декоративной керамики; этих во главе с мастером Степаном, прозванным за невероятное свое умение Полубесом, увезли в Москву украшать Оружейную и другие палаты Кремля. С того самого штурма мстиславльцев несколько столетий подряд дразнили “недосеками”.