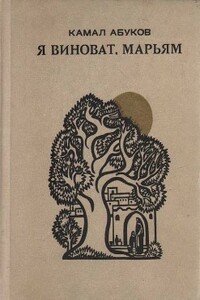Меланхолия | страница 33
И пока добираются до «Верую», Лявонка то переступает с ноги на ногу, то выкрикивает слова на всю хату, то шепчет едва слышно, то изо всех сил сжимает руки, то разжимает их. Развлекается в допустимых рамках человека, поставленного вести беседу с самим господом. Мать тем временем уже хлопочет возле печки; Лявонка же, сначала удивленный ее невниманием к своим шалостям, потом, используя случай, начинает так подпрыгивать, что скамейка под ним ходуном ходит... В конце же засматривается на икону, на седого старика с какой-то большой тыквой в одной руке и палкой в другой. В голове роятся мысли: почему этот, с лица похожий на его деда, но неласковый седой дед, почему он — бог?
От окна, засыпанного снегом, сильно тянет холодом. Постепенно светает — начинается невеселый зимний день.
Как все это давно было! Помер дедушка, постарели родители, выросли дети...
О, милые дни детства!
И вот опять такие же рассветы... Овец надо резать.
С лучиной под гарнцем или горлачом, чтобы ветер не погасил, идут через двор в хлев. Темень... В хлеву стоит корова и жует жвачку. Овцы лежат у стенки, тесно прижавшись друг к дружке. Одна из них жует соломинку, быстро вбирая ее беззубым ртом, губами. Повернула голову на свет. Глаза сверкают, как у кота в ночи, словно в них пьшает кроваво-красный огонь. Надо ловить: расставив руки, надо хватать за бока, за шерсть... Разбегаются...— лови их! Поймали. Бьется в руках, вырывается... Тянут, зажав ногами шею. Знает ли она, что на смерть ведут? В хате топает копытцами, упирается. Просыпаются дети. Они хотят смотреть, а на них кричат, и они лезут на печь, где можно лежать на тепленьком и смотреть, как будут резать. Нож наостренный. Корытце мать подставляет под шею. «Держи за передние ноги»,— тревожно говорит отец. Затем круто назад откидывает овце голову. Лявонка, лежа на теплой печке, отворачивается — не может этого видеть. Трепещет зарезанная овца все слабее. Едва-едва. Пустили: освежевалась овца. Голова откинулась, ноги коченеют, вытянулись. Отец стоит с засученными рукавами, с ножом в крови. И пальцы его в крови — словно убийца, насупленный и сердитый. Смотрит вниз на овечку, отдыхает и ждет, когда она затихнет. Потом взял за ногу, за копытце и надрезал кожицу колечком, точно так же, как мальчишки надрезают на лозе кору, делая дудку. И вторую ножку, и все ножки. Потом завернул на ножках кожицу. Мясо белое... Просунули палку под жилы в задних ногах, к палке привязали веревку, перекинули через шест у потолка и стали тянуть. Подтянули овцу за ноги довольно высоко, кровавой головой вниз,— выше, ниже, чтобы ловчее было обдирать. Привязали. Голова болтается, кровавит. Отец подпоясался материным фартуком и стал разрезать кожу по брюху, от шеи до самого хвоста. Потом, помогая ножом, пальцами и кулаками, принялся отделять кожу от мяса. И кожа все более отделяется, как отставшая кора весной. Смешная стала овца — без шубки... Растянули шкурку на полу, шерстью вниз, посыпали крутой солью, густо-густо, свернули и на время оставили под скамьей. Позже повесят ее на шест, а всякие там скрюченные кончики — ножки, голову, хвостик — растянут лучинками, чтобы лучше сохли. Шест висит у самого потолка, возле печки, где тепло. Подсохнет шкурка — отдадут выдубить, будет Лявонке кожушок.