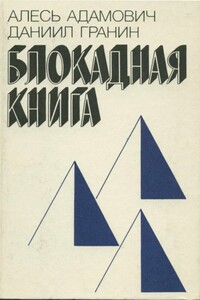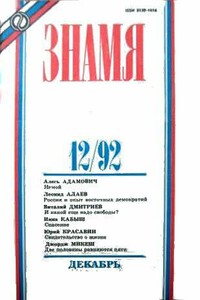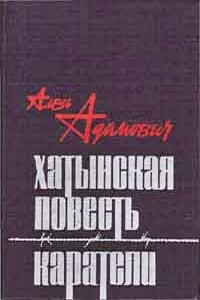"Врата сокровищницы своей отворяю..." | страница 47
«Наш командир пришел во двор, остановился возле хаты, где лежали убитые на соломе, перекрестил Толстова и сказал: «Царство небесное!»
В хате он расцеловался с каждым раненым, приговаривая всякий раз: «Поздравляю, брат, что удостоился пострадать за веру, царя и отечество!»
При этом царила торжественная тишина, у некоторых на глазах блестели слезы. Даже мне было тяжело за свою враждебность ко всему этому красивому самообману» .
Тот, кто пишет, записывает это,— сам увлечен невольным азартом боя и всей той атмосферой «самообмана», которая вместе с открытым насилием держала солдат в окопах вплоть до революции 1917 года. Есть здесь и уважение фронтовика к мужественному человеку — тому самому командиру батареи. Этот ни в какие игры не играет: воюет зло, профессионально, не тая, когда страшно, и боязни за свою жизнь. (Помните, это он под шквальным огнем мужественно командует батареей, а сам все крестится... А может быть, ради женщины далекой, ради детей своих крестится, просит милости у смерти, стоя так мужественно под огнем.)
В рассказе «Генерал» война нарисована, показана через поведение, переживания, внутренний мир не рядового батарейца (как в «Записках Левона Задумы»), не крестьянина (как в «Литовском хуторке»), а штабного чина. И здесь исчезает уже даже лирика «фронтового братства» и взаимопонимания солдата и крестьянина, которая кое-где была, которую невольно выразил Горецкий, хотя и называл это тут же «самообманом».
«Генерал» — произведение холодно, въедливо аналитическое. Здесь срываются всякие маски — беспощадно, по-солдатски мстительно.
Ни «Генерал», ни второй рассказ Горецкого «Русский» вплоть до 70-х годов не были известны современному нашему читателю. (Хотя рассказ «Русский» в свое время был хрестоматийным.) И никак не влияли на военную литературу последних десятилетий.
Но читаешь «Мертвым не больно», «Одну ночь» Василия Быкова, и такая внезапно приходит мысль, надежда. Что рожденное в литературе однажды исчезнуть не может. Совершенно независимо от прежнего, вновь оно появляется — пусть и в иной форме, с иным значением.
***
Это вроде бы противоречит той нашей мысли, что если что-то помешает произведению появиться в свое время, то оно не появится никогда. Появится, но уже другое, с другим «чуть-чуть».
И все-таки есть не только желание, но и основание верить, что рожденное однажды (даже если запрятано или занесено, скрыто пылью, илом времени) существует, продолжает присутствовать в литературе — словно ниша, словно пустота, которую литература будет стремиться заполнить. Сознательно, а может, и подсознательно...