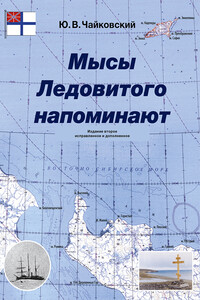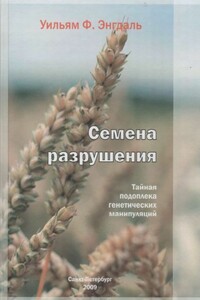Эволюция как идея | страница 74
Термиты нас поражают, но на деле подобное нас прямо-таки окружает: и семена злаков, и икра многих рыб, и молодь большинства видов выедаются почти целиком, тогда как рядом живут такие же виды, но несъедобные. Прав был Карл Бэр: численность вида определяется не успешностью в борьбе за жизнь, а местом в экосистеме.
Но Бэру было легко: он признавал эволюцию лишь в рамках вида (изредка — рода), а об эволюции экосистем и речи тогда не было. Нынче же неизбежен вопрос: каким образом экосистема управляет видами, в частности, запрещая экологически базовым видам мутации несъедобности? Философема дарвинизма (отбор якобы устраняет неудачные экосистемы) здесь, как и всюду, не дает ничего: прежде чем обращаться к вопросу, как удачные экосистемы побеждают (они ведь не размножаются), надо понять, хотя бы гипотетически, как они существуют здесь и сейчас, т. е. каким образом пресекаются мутации несъедобности и многое подобное. Путь к ответу указал Любищев — это двойной мир (см. далее).
Работ Скёддера, Метерлинка и похожих Любищев не знал, хотя найти их в библиотеках Ленинграда было легко, например, журнал «Nature» за 1870 год. Странно, но ему, въедливому критику дарвинизма, ни разу не пришло в голову поискать, что писали современники Дарвина.
Любищеву, как и многим, было приятнее придумывать логические доводы против дарвинского механицизма, нежели искать в литературе сообщения полевых наблюдателей об отсутствии отбора на практике. Это отсутствие, так никогда и не замеченное Любищевым, оказалось решающим для развития как раз любищевского понимания эволюции. О нем речь далее и в следующей главе.
Еще приезд 2006 года запомнился мне тем, насколько в Ульяновске царили бандиты. В восемь вечера кончал работать трамвай, и город пустел. Идя в девять вечера от Зусмановских к Марасовым (где Линника и меня очень радушно приняли тогда на постой), с изумлением вижу, что иду по широкой и обычно шумной улице Кирова один. В окнах свет, горят фонари (освещенных улиц было в те годы в Ульяновске всего четыре), едут машины, а прохожих нет. Конечно, хотелось скорее оказаться под крышей, но страшно не было — неужто ради меня одного, о чьей прогулке разбойникам неизвестно, они покинут домашний уют?
Страшно было тремя годами раньше. Как-то апрельским утром захотелось выйти на знаменитый обрыв, давший заглавие роману И. А. Гончарова. Обрыв тоже в тот час был безлюден, как и садовые участки с домиками, что вниз по склону. Любуясь заволжской далью, не сразу замечаю въехавший меж кустов милицейский «газик».