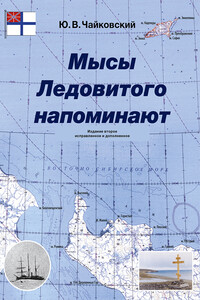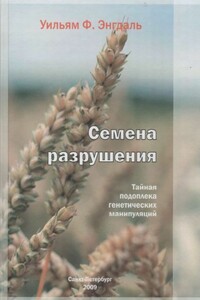Эволюция как идея | страница 73
В тот год меня в Ульяновске не было, зато мне попалась на глаза книга Мориса Метерлинка, где знаменитый драматург (автор «Синей птицы») убедительно показал, что отбора нет даже там, где он, вроде бы, очевиден. На этой основе через год мной был сделан доклад 4–06, самый мне важный. В нем впервые (для меня) была озвучена публично та давно известная истина, что естественного отбора в природе вообще нет. Поясню ее.
Еще в 1870 г. Сэмюэл Скёддер (Scudder) указал общий для многих насекомых факт: на одной стадии размножения вид подвергается почти полному истреблению, хотя другие, сходные, виды несъедобны. Тогда было уже известно о тропических термитах — общественных насекомых, которые перед спариванием обламывают себе крылья и, беспомощные, тут же становятся пищей для многих видов [Метерлинк, 2002, с. 334; Ч-08]. Менее одной пары на тысячу ускользает от гибели, т. е. самою природой из века в век ставится очень жёсткий селекционный опыт: вариации съедобности должны отбираться, и несъедобные должны вытеснить остальных. Но этого не происходит. Почему?
Не имеется нужных вариаций? Нет, несъедобность у других насекомых общеизвестна, она иногда возникает за счет одной точковой мутации. К тому же главный тезис Дарвина гласит, что вариации возникают вне зависимости от их выгодности. Словом, на термитах идея отбора опровергнута прямым массовым наблюдением. И нет никаких оснований верить в отбор при менее жёстких условиях.
Надежда на обсуждение доклада не оправдалась, и даже весьма дружески настроенный Марасов сказал мне потом лишь: «Вы смелый человек», но сути доклада не коснулся.
Шутка ли — какой-то драматург старинный рушит всё, не только дарвинизм (чёрт бы с ним), а самую суть понимания выживания и размножения. Это ведь вроде так очевидно: лучшие вытесняют худших. Однако оказалось совсем не так: для эволюции достаточно ни разу не вымереть.
Известны Любищевские чтения и в других городах, но редкие [Шорников, 1998]. В апреле 1990 г., в честь столетия Любищева, их провели в Москве Институты философии и истории естествознания и техники. С 1990 г. раз в 5 лет в гор. Тольятти (бывший Ставрополь Волжский), где Любищев умер и похоронен, проходят свои Любищевские чтения. Сперва это была конференция в дни столетия Любищева в апреле 1990 г., позже названная Первыми Любищевскими чтениями, затем с 1995 г. они сразу так и названы (в 2015 г. прошли Шестые чтения).
Из первых там докладов к теме эволюционного прогресса относится доклад [Краснощеков, 1991], прямо заявивший, что утверждение И. И. Шмальгаузена о паразитизме как деградации неверно. Автор отметил, что самый акт паразитизма есть вхождение в новую среду, требующую быстрого прогресса своего иммунитета для борьбы с иммунитетом жертвы. Для Шмальгаузена, едва ли думавшего об иммунитете вне тематики болезней, это вряд ли был бы довод, однако он заблуждался и чисто морфологически. У внутренних паразитов хоть и упрощается заметная простому глазу морфология, зато резко усложняется строение покровных тканей и органов размножения. Словом, опять по Аристотелю.