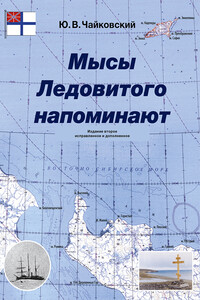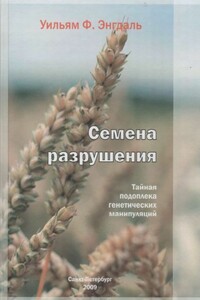Эволюция как идея | страница 72
И дарвинизм, и ламаркизм, и номогенез тут не прежние, а новые: они служат частью диатропической теории эволюции. В частности, отбору подвергаются не малые ненаправленные вариации, а готовые конструкции, понимаемые в рамках номогенеза (как клетки рефренной таблицы). Это радикально отлично от СТЭ и иных попыток синтеза, где в основу положен дарвинизм, к которому добавлен какой-то еще принцип.
Крупным ученым он себя не считал, и мне пришлось долго уговаривать его назвать свою книгу «Эволюция с точки зрения физиолога» — он упирался: «Кто я такой, чтобы выставлять себя?». Но это заглавие оказалось верным: книгу заметили. К сожалению, он писал ее, уже теряя дееспособность, и с прежними его трудами работать легче.
Всех, кто говорил на Чтениях что-то интересное об эволюции, не перечесть. Чтобы хоть как-то осветить масштаб Чтений и их роль, в этой книжке все ссылки, какие по смыслу следует, даны именно на труды Чтений. Оказалось, что даны ссылки на 37 публикаций в Чтениях, и легко бы число ссылок удвоить, ибо использована их малая толика.
Добавлю лишь, что Р. М. Зелеев из Казани часто поражал необычным взглядом на эволюцию и систематику, что Л. Н. Воронов [2000] из Чебоксар призывал осознать необходимость идеализма для прогресса биологии; что, наоборот, А. Б. Савинов из Нижнего Новгорода, большой эрудит, без устали убеждал нас в вечности истин диалектического материализма и антинаучности всех форм идеализма; что, вопреки ему, его приятель В. А. Брынцев из Мытищ неуклонно строил метафизику первичности движений и вторичности материи, ну и так далее.
Моих же докладов за 1994–2008 годы на Чтениях состоялось девять. Однажды там был пунктирно проведен разбор моих построений, это сделал в своем докладе И. А. Игнатьев, ученик и душеприказчик Мейена. Среди прочего, он предъявил мне упрек:
«Естественный отбор то последовательно отрицается, то неожиданно признается „вторичным“ фактором эволюции, ответственным за выявление „квантов селекции“ — морфологических и функциональных блоков, в том числе целых сообществ» [Игнатьев, 2005, с. 94].
Да, «квант селекции» казался мне тогда важным понятием: отбираться может лишь работающая система (то, что сформировано в силу некоего иного закона — то ли по Ламарку, то ли по Бергу, то ли еще как-то). Однако «может лишь то, что…» не означает действительного существования, а я его счел, т. е. спутал необходимое условие с достаточным. Кванта селекции в природе не нашлось: новая система не может вытеснить прежнюю за счет лучшей размножаемости (LR, т. 13, с. 99), она лишь занимает доступную нишу. Прежняя исчезает сама в силу падения рождаемости ниже смертности, и это замещение ошибочно описывают как дарвинский отбор. И не зря В. И. Назаров [2005, с. 55] заключил, что «естественный отбор предстаёт как достаточно грубый механизм, не способный забраковать даже особи с явно уродливой организацией».