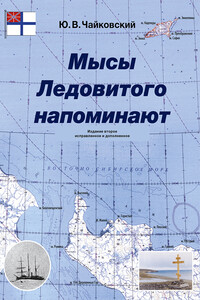Эволюция как идея | страница 64
Так, увы, долго поступал и Дарвин, и так у дарвинистов с тех пор принято. Никто из них не знает, что писал Дарвин, что в последние 10 лет жизни, осознав тупик дарвинизма, всё более агрессивного, он, как сам писал, «забросил все теории»; при этом достигнув больших успехов в ботанике и рождавшейся экологии. Досадно у автора, использующего нечитанного Дарвина лишь как символ, читать про «книгу известного антидарвиниста Ю. В. Чайковского (2008)» [Савинов, 2012, с. 36]. Ее он, видимо, не читал тоже — ведь как раз там рассказано, как Дарвин пришел к своему учению и сколько учений (о коих А. Б. Савинов не слыхивал) из этого выросло. А в статье «Диатропика» (LR, т. 14, с. 97) он может прочесть и про блестящее достижение Дарвина, никем из дарвинистов ни разу не упомянутое. Так что неясно, кто тут антидарвинист.
Казалось бы, какая нам разница, что пишут те, кто не отличает попытку понять, как устроен мир, от доказательства своей правоты? К сожалению, они все и всегда примыкают к большинству и преподают своё неумение и нежелание различать ученикам. Тот же Савинов с упоением новичка то и дело подает как синонимы идеальное и непознаваемое, материалистическое и научное и т. п.
Ниже мы увидим, что как раз материализм уже сто лет как отказывается не то что познавать, но даже упоминать основной блок фактов, нужных для построения теории эволюции, тогда как идеализм их изучает. Здесь же замечу только, что идеальное приходится признавать и изучать всем, включая даже самых вульгарных материалистов. Таково, например, творчество — чисто идеальная процедура, познаваемая через ее материальные итоги — изделия, сочинения и пр. Такова и эволюция (биологическая и не только), познаваемая через ее материальные итоги, в которых, однако, неизменно видны акты переноса идей.
Увы, замалчивание неприятного обычно не только у дарвинистов и не только в биологии. К примеру, так и не удалось мне найти содержательную критику основ теории множеств Георга Кантора. Хотя историки математики изредка пишут, что его критиковали (а то и отвергали) крупнейшие его современники, но ссылок у историков нет, а становиться самому историком теории множеств мне было уже поздновато, да и не по силам (см. 4–16, с. 21, 37, 76). Не ищут и другие, начиная критику с нуля — тоже, как с дарвинизмом.
Как же еретические знания об эволюции последние сто лет добывались, обсуждались и сохранялись в условиях замалчивания? Насколько знаю, на Западе — никак, а вот у нас было эволюционное братство, и связано оно с именем Александра Александровича Любищева (1890–1972). Он широко известен как въедливый критик дарвинизма и особенно СТЭ (о чем см. 4–84), хотя, по-моему, велик он не этим.