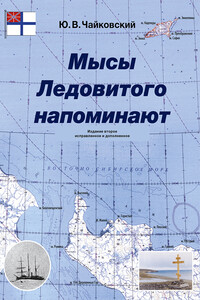Эволюция как идея | страница 63
И так повсюду. Словом, догма препятствует эволюционным исследованиям, примеров чему не счесть. Ситуация давно описана методологами различных школ. В частности, в рамках концепции «коллективного бессознательного» Карла Юнга, дарвинизм аттестуют как социальный миф, принимаемый большинством неосознанно, через социальные каналы (см. наир. [Sheldrake, 1994, р. 257]). Как известно мифологам, несоответствия мифа реалиям мира просто не воспринимаются сознанием адепта, так что любая критика бессмысленна. Вот один лишь пример. Историк науки Э. И. Колчинский [2002, с. 318] пишет:
«Юбилей 1959 г. стал годом триумфа дарвинизма и ознаменовался рядом конференций в разных странах. Важнейшей из них была конференция в Чикаго, участники которой провозгласили окончательную победу теории естественного отбора в биологии»
С одной стороны, сказанное формально верно (да, стал; да, провозгласили), но с другой — откровенная ложь, ибо высказано как достоверный факт, а не как устаревшее мнение. Сам автор по всей книге показывает, что дарвинизм отнюдь не общепризнан, что, тем самым, об «окончательной победе» речи нет. Да ее в мировоззренческих вопросах и не бывает, что, полагаю, ему тоже известно.
Что касается 1959 года, то, кроме Чикагской конференции, он ознаменовался взрывом публикаций о Дарвине и дарвинизме, в ходе которой родилось критическое дарвиноведение[29], заглохшее лишь в 1980-х, когда было сказано (на Западе, не у нас) всё существенное. Начало положили две толстых книги Альвара Эллегора [Ellegård, 1958] и Гертруды Гиммельфарб [Himmelfarb, 1959], вскоре переизданные. (Вторую издали сразу дважды и переиздают до сих пор, так как она назвала Дарвина предтечей коммунизма и фашизма.) Именно в 1959 г. пустые восхваления дарвинизма впервые получили отпор специалистов, от которого апологеты так и не оправились и о котором поэтому у них принято молчать.
Даже у нас, где дарвинизм был и остался идеологией власти, на пике хрущевской оттепели появилась вежливо-убийственная статья о дарвинизме [Сукачев, 1959], тоже никогда не упоминаемая. Всё это или почти всё сам Колчинский, как квалифицированный историк науки, знает.
Есть у него умолчания и похуже: так, отрицая влияние глобальных катастроф на массовые вымирания (неясно почему, но так у дарвинистов принято), он относит это влияние к «принципиально непроверяемым» гипотезам [Колчинский, 2002, с. 273], для чего опускает всю литературу последних двадцати лет и почти всю — последних сорока лет. Однако едва ли он сочтет справедливым упрек ему в фальсификации через умолчание — зачем он должен поминать неприятное? Кому приятно, тот пусть и поминает. Только это уже не наука (если понимать ее как поиск истины), а лишь доказательство своей правоты. См. [Мейен, 2006].