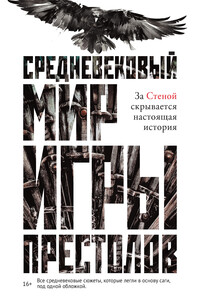Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара | страница 87
Иллюзия телесного и эмоционального обновления в «сначальной» жизни, якобы открывающей простор для исправления неловкостей и ошибок в прошлой семье, наполняющей «предвкушением… тщательного отцовства», непохожего на то, как когда-то, в бестолковой молодости он опоздал к Тоне в роддом и примчался «потный, хмельной и запыхавшийся», – омрачается у героя Полякова невольной, разрывающей его сознание затерянностью между пространствами оставленных квартир, маршрутами былых – от Ельдугино, Химок и Кимр до Сицилии – поездок с женой, между привычными вещными координатами семейного быта, когда «галстуки ему выбирала и повязывала, разумеется, Тоня», и досадным для него равнодушием к домашнему миру со стороны «малолетней Светки, носившей исключительно джинсы да майки»…
Финал «Грибного царя», как и повести «ЧП районного масштаба», романов «Замыслил я побег…», «Любовь в эпоху перемен», поставляет героя на порог расставания с жизнью и овеян мистическим чувством. Блуждания по лесу, встреча с Грибным царем отчасти возвращают дыхание детства и в то же время знаменуют прозябание его не только в семейном, но и в онтологическом смысле «захолостяковавшего» «я» на перепутье воспоминаний, проектов будущего и неосуществившихся жизненных альтернатив: «Кисточка лесного злака… смела в небытие все то белоснежное будущее, которое только что навоображал себе директор «Сантехуюта»… сразу и навсегда понял: Светкина жизнь никогда не станет частью его собственной жизни… Он вдруг ни с того ни с сего вообразил себя монахом, пустынником… даже увидел это свое будущее лицо».