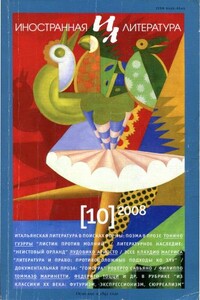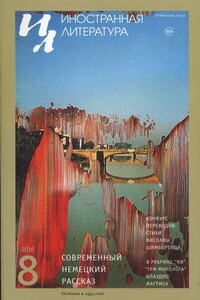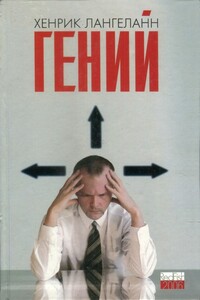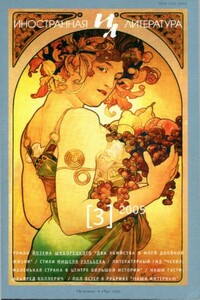Дунай | страница 60
Герои Зингера не поворачивают назад, а невозмутимо входят в комнату, потому что не страшатся встретиться с жизнью и не боятся оказаться не на высоте; они без высокомерия принимают час победы, без тревоги — час поражения: в их свободных телах скрыта глубокая уверенность в том, что и победа, и поражение повинуются закону необходимости, словно прилив и отлив. Тот, кто подобно Дзено[34] и Йозефу К., страшится поражения и не способен его принять, прячется в литературе, среди складок бумаги, позволяющих играть с призраком поражения, обходить его, не подпускать его близко и одновременно заигрывать с ним, обхаживать его и одновременно отсрочивать встречу. Литература спасает от нехватки чего-то благодаря тому, что она переносит это что-то на бумагу, воруя его у жизни, так в жизни оказывается еще больше пустоты и недостатка. Жан-Поль говорил, что писатель хранит свои познания и мысли в написанном: сожги кто-нибудь его бумаги, он все потеряет и ничего не будет знать; бродя по улице без записных книжек, писатель оказывается дураком и полным невеждой, «бледным силуэтом и копией собственного «я», его представителем и curator absentis[35]».
Впрочем, бумага добра, она учит смирению и раскрывает глаза на пустоту «я». Тот, кто написал страницу, а через полчаса, ожидая трамвай, вдруг понял, что не понимает ничего, даже того, что он сам написал, учится видеть собственную малость и осознает, думая о бесполезности собственной страницы, что всякий, буквально всякий из нас принимает собственные домыслы за центр вселенной. Возможно, он ощущает себя братом множества людей, которые, как и он, тщеславно полагают, будто принадлежат к избранным душам, в то время как их пороки толкают их к погибели, и внезапно осознает, насколько глупо в общем потоке людей, спешащих, расталкивая друг друга, к пустоте, наносить друг другу раны. Писатели составляют тайный всемирный орден, масонское братство, Ложу глупости; не случайно многие писатели, от Жан-Поля до Музиля, сочиняли похвалы глупости и размышляли о ней.
Малость литературы помогает осознать нищету и относительность ума и, таким образом, прокладывает путь братской взаимотерпимости. Бумага учит не принимать бумагу слишком всерьез; даже тот, кто больше похож на Кафку, чем на Зингера, прочтя «Замок» и «Письма к Милене», научится нажимать на дверную ручку, открывать дверь и входить в комнату. Немного спустя он с радостью увидит, как его дети ворошат его бумаги, делают из них лодочки или шарики для духовой трубки. Когда моя почтенная морская свинка Буффетто II грызет обложку «Генеалогии морали» и запыленные горделивые усики вздымаются до нижней полки книжного шкафа, из верности Ницше я не мешаю зверьку — напротив, я радуюсь тому, что он вольно обращается с миром, лежащим по ту сторону добра и зла.