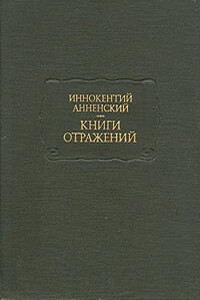Эпицентр | страница 88
— Пора, — сказал, посмотрев на часы, сержант Шавкат Шаимов, и это «пора» означало: комендантский час наступил.
По местному времени был час ночи, полночь в Москве.
В нескольких метрах от нас шумела река, ее крутые каменистые берега сшиты мостом. За ним, взбираясь на взгорок, — Степанакерт, молчаливый среди таких же безмолвных заснеженных гор. Пустынные улицы, темные окна домов… У моста сходятся две дороги; одна, основная, ведет в райцентровский город Шушу. Здесь, на дорожной развилке, находится контрольно-пропускной пункт, где несут службу солдаты внутренних войск и мотострелки.
Сержант Шаимов — старший смены, и сейчас, взглянув на часы, вместе с рядовым Равшаном Рахмановым он идет на мост, перекрывает его шлагбаумом. Рядом застыла боевая машина пехоты. Все — с этой минуты и до пяти утра въезд и выезд из города только по специальному пропуску. С обязательным осмотром машин.
— Теперь комендантский час вдвое с лишним короче, — объясняет Шаимов, — а в сентябре, когда ввели его, был с девяти вечера и до шести утра. Значит, нормализуется обстановка.
И все же интересуюсь: как реагируют люди на эти ограничения? Ведь и днем проверяют машины, документы у водителей и пассажиров. Правда, в отличие от комендантского часа, выборочно.
— Нормально воспринимают, с пониманием, — слышу в ответ. — Конечно, не все, но мера-то вынужденная, это большинство осознают.
— Для них же самих порядок обеспечиваем, — уточняет Рахманов.
Замечание существенное, слышу его не впервые. И не только от людей в погонах. За те дни, что нахожусь в НКАО, беседовал с рабочими и колхозниками, азербайджанцами и армянами, с местными жителями и переселенцами. То же самое мнение, что солдат высказал.
Это сознание правоты того дела, что поручено в НКАО воину, на нем ведь он и держится. Мне рассказывали: быть свидетелем острых событий в Нагорном Карабахе — это для солдат и офицеров, воспитанных, как и многие, на представлениях о беспроблемности национальных процессов, и непростые уроки. Встречались и растерянность, и уныние… В особых условиях проверяются и формируются тут интернациональные чувства воинов. Но вот что главное: как быстро идет их взросление, появляется гражданская зрелость. Слетает шелуха того, что Ленин назвал «национальным мещанством». А мещанин, с его обывательской психологией, может жить в любом человеке, независимо от возраста и образования.
Суров здесь и сам режим службы. Через день на ремень: сутки дежурство — сутки отдыха. И так подряд несколько месяцев. Выматывает, огромное напряжение сил требуется. Парни держатся на понимании: они пришли помочь народу, оградить от вылазок экстремистов. Их сознание долга — как сродни оно тому пониманию «Надо!», которое видел в Чернобыле, которое вело «наливники» и машины с продуктами по афганским дорогам. Нам еще предстоит осмыслить это состояние духа советских парней в солдатских погонах, стержень которого — интернационализм, ведь готовыми интернационалистами не рождаются…