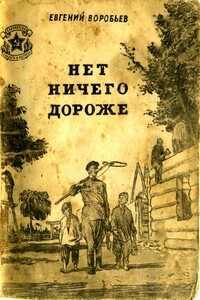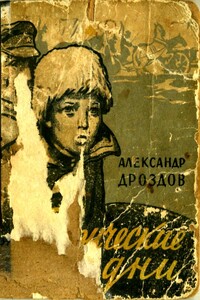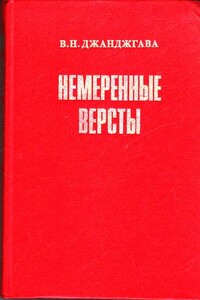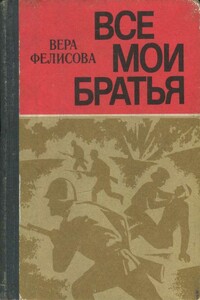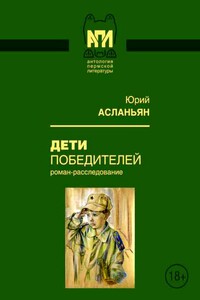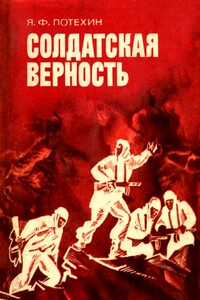Сталинградские были | страница 12
Труд для Егора был постоянной потребностью. С наступлением полевых работ он весь преображался. Его продолговатое лицо с чуть насмешливыми глазами становилось веселым, довольным. И мне нравилась его неугомонность, трогательная привязанность к земле, которая хорошо сочеталась с унаследованной от дедов практической мудростью хлебороба.
— Земля любовь любит, любовью и отплачивает, — убежденно сказал он мне, когда накануне весеннего сева мы обходили черные, дышавшие теплом поля.
— Тебе, Егор, учиться надо, — посоветовал я. — Хороший бы из тебя агроном вышел.
— Я об этом давно подумываю, да вот с колхозом жаль расставаться. Но все же осенью поступлю в техникум…
А осенью пришла повестка явиться в райвоенкомат на призывную комиссию. Там его признали вполне годным для несения действительной военной службы, и вскоре Егор выехал — на Дальний Восток.
Поезд дни и ночи отмеривал километры, все дальше и дальше оставляя родную Бутурлиновку. Он мчался по просторам Поволжья, Урала, через степи и тайгу Западной и Восточной Сибири.
Акиньшин не отходил от окна вагона. Перед его взором простирались необъятные равнины, поднимались к облакам горы, вставали огромные леса, которым, казалось, не было конца. Голубые ленты величавых рек и малых речушек вплетались в пейзаж. Везде чувствовалось дыхание большой человеческой жизни. Дымили фабрики и заводы, мчались тяжело груженные эшелоны, вздымались новые промышленные корпуса, жилые дома, дворцы культуры.
«Родина! Моя Родина!» — гордо думал Акиньшин, любуясь красотой и богатством советской земли.
К воинской дисциплине Акиньшин привык быстро, жадно поглощая страницы уставов, наставлений и учебников.
«Здесь я нашел много интересного, — писал он товарищам. — Хочется все узнать, все усвоить. Плотная шинель артиллериста пришлась мне по плечу, сутуловатость в строю выпрямилась, но о колхозе забыть не могу. Отслужу— и снова буду вместе с вами выращивать на бутурлиновском черноземе высокий колхозный урожай…»
Однако война надолго отодвинула возвращение Егора Акиньшина в родное село. В составе сибирской дивизии он выехал на фронт.
Казалось бы, в фронтовой обстановке, особенно в период напряженных сталинградских боев, трудно рассчитывать на встречу с кем-либо из друзей мирного времени. Но народная пословица недаром говорит, что гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда может встретиться.
Повстречались и мы с Егором Акиньшиным, причем встреча произошла, как и в первый раз, в клубе, но только не в колхозном, а в военном, который армейские шутники называли «последним чудом землеройного искусства». Вырыт он был под высоким обрывистым берегом Банного оврага, неподалеку от его выхода к Волге. «Главный зал» имел пять метров длины и четыре метра ширины. Сверху двадцать метров твердой глинистой породы. Фойе не было, и в «зал» входили прямо с улицы. Окон тоже не было. Выручали коптилки, сделанные из артиллерийских гильз. Они тускло освещали портреты, лозунги, развешанные на стенах, стопки газет, журналов и брошюр, лежащие на столе, покрытом красной скатертью.