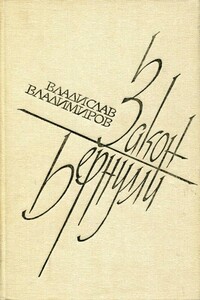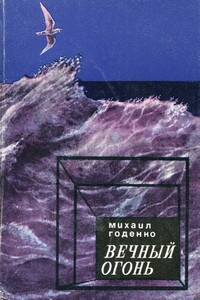Пульс памяти | страница 36
Отец замечал наконец, что проклюнулось утро, что уже совсем светла и явственна на фоне синего неба верхушка огромного тополя по ту сторону улицы и что все чаще мелькает в окне озабоченно-тихое, бледное от бессонницы лицо жены…
«Хлеб и хлеб…»
С этим и отрывал он свое онемевшее плечо от косяка, входил в хату. Наскоро умывался, так же торопливо завтракал и отправлялся на бригадный двор, а оттуда, после «наряда», — в поле. К этому самому хлебу, который конечно же нужен войне не менее, чем солдаты.
Так заканчивались ночные бдения отца, когда, неизменно возвращаясь к одному и тому же, плыли по кругу его тревожные думы.
И ту ночь, после встречи на железнодорожном разъезде с Василием, отец тоже наполовину провел во дворе. Но теперь он уже не рисовал картины мысленно, теперь война — близкая, уже кровно осязаемая, настоящая — была заново открыта и заново понята отцом. И он не мог не верить своему открытию и тому, как уразумел его, — потому что открыл и понял эту, нынешнюю войну по взгляду родного сына.
В девятнадцать лет глазам, совсем еще юношеским, не под силу вмещать в себя столько душевного смятения, перемешанного, как это ни странно, с грустью, если они не вкусили безрассудства и жестокости, не запечатлели всесилия злости и бессилия жалости, не видели безвременно умирающих друзей. Умирающих насильственно, казненных вероломством и дикостью и, как ни трудно в это верить, по воле одного лишь человеческого безумия.
Это понимал отец как солдат.
И понимал скорее не рассудком, а сердцем.
Он, знавший войну, как знают давнюю застаревшую боль, вдруг обнаружил, что войны всегда начинают свое моровое шествие с распятия молодости. Они готовы — дай только волю злым силам! — устилать и устилать свои дороги трупами почти еще безусых юнцов.
Отец вспомнил тысяча девятьсот шестнадцатый год: ему было девятнадцать. Теперь вот тысяча девятьсот сорок первый: Василию девятнадцать…
Отцу хотелось на весь мир, громко и зло спросить у кого-то невидимого, но власть и мудрость имущего, знающего суть всего и вся: зачем людям такая дикость и такое безрассудство? Земля на сносях: вот-вот падать на зубья жнейки первому колосу… День ото дня веселей золотая тяжесть плодов в садах… Обливаясь сладкой и благостной свежестью рос, радостно мучаясь под зноем и грозами, трудно, но прекрасно рожает земля. И вдруг в эту ее предурожайную, родовую спеленатость, в солнечную желтизну ее материнской постели врывается холод воющего металла, танцующие коршуны взрывов — и падают, падают, падают люди. Уже мертвые или уже калеки…