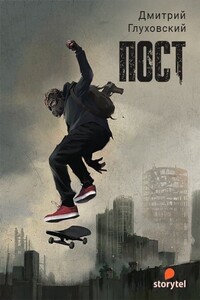Пост 2. Спастись и сохранить | страница 116
Они успели с девчонкой переглянуться — та замотала головой: не тормози! — человек не шелохнулся, даже когда Лисицын в воздух пальнул — и они налетели на него на полном ходу, километрах на пятидесяти. Он хрустнул слышно, сложился, отлетел — Лисицын обернулся — и вроде бы двинулся за ними следом, уже сломанный, — но было совсем темно и наверняка сказать было нельзя.
После этого еще минут двадцать горючее бултыхается в баке, а потом движок начинает перхать и вскоре подыхает. Фара засыпает тоже. Они соскакивают с дрезины и идут по оползающей насыпи в кромешной теми; девчонка нашаривает его руку и крепко сжимает ее своими пальцами. Лисицын сначала не отвечает ей, потом вспоминает: она и глухая ведь еще, шайтан возьми, вот же ей должно быть страшно. Тогда он тоже позволяет себе немного ее пальцы стиснуть, чтобы она почувствовала человеческое тепло.
Сосны качаются и стонут, иной раз совсем по-звериному, ветер среди них ходит и выдувает что-то потустороннее. Тени, оторвавшись от веток и стволов, без спросу перескакивают туда-сюда.
И вот — впереди теплится что-то! Уличный фонарь на богом забытом полустанке. Живо электричество, значит, и люди живут.
— Я больше не могу, — шепчет девчонка. — Я с утра на ногах, я упаду сейчас.
Они приближаются: кургузенький, на три покосившихся дома, поселок. Надрываются собаки, носятся по проволоке вдоль кривого забора — огромные овчарки.
Лисицын выходит в желтое пятно под фонарем, догадываясь, что из дома, из темных окон, уже наверняка подглядывают — сквозь ажурно вязанные, нечистые занавески. Глядят внимательно и опасливо.
— Хозяева! Императорские казачьи войска! При исполнении! Не бойтесь! — уговаривает и их там, и сам себя Лисицын. — Пустите погреться!
Собаки перебивают, орут и скалятся, но у Лисицына хорошее чувство: если бы эти сюда добрались уже, собак бы тут не было. Сожрали бы их или в клочья руками разорвали.
И точно — в сенях загорается свет. Визжат засовы, открывается осторожно дверь. На пороге стоит старый хрыч с карабином. Карабин, однако, на Лисицына не направляет, щурится через сломанные очки.
— Один?
— С девушкой.
— Урал! Фу! — осаживает собак старик. — Свои!
Они проходят в калитку, которая на честном слове держится, мимо глухо рычащей псины, по скрипучим поехавшим ступеням — в дом, в стариковскую обычную кислятину. Затхло пахнет оканчивающаяся жизнь, невкусно, но все же — почеловечески. А за спиной, там, где темный Ростов, пахнет сейчас по-другому.