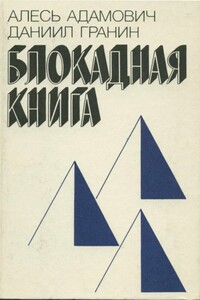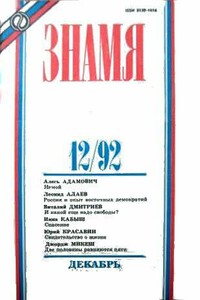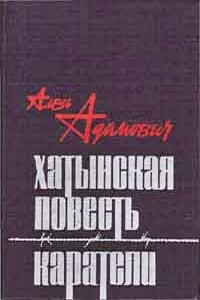Василь Быков | страница 8
Желтых, командир орудия ("Третья ракета"): "...Я все медали отдал бы, только бы детей уберечь. Вон — не окончится война к новому году — старший мой, Дмитрий пойдет... Только и радость, когда подумаешь, что эта война — уже последняя. Довоюешь, и баста. Уже другой такой не будет. Не должно быть. Сам я готов на все. Но чтобы последний раз. Чтобы детям не довелось".
А это — Лозняк, "лирический герой" "Третьей ракеты" (и, конечно же, сам автор): "Да, война! Будь она трижды и сотни раз проклята, эта война. Она ежечасно висела над нами все недолгие годы нашей жизни, она созревала, копилась над нашей люлькой, которую, вернувшись с предыдущей войны, ладили наши отцы. Под ее черным крылом качались, подрастали и учились мы — солдатские сыновья и сами будущие солдаты".
В. Быков, в отличие от многих авторов военных повестей и романов, с самого начала, с первых своих вещей не пошел путем "художественного автобиографизма", который хотя и имеет свои преимущества в воспроизведении богатства и разветвленности жизненных связей, но все же недопустимо расточителен. В. Быков свой "фронтовой запас", материал расходует очень экономно, повышая его художественную "горючесть", его полезный коэффициент за счет острого сюжета и с помощью прямого подключения к современному напряжению жизни — к проблемам и тревогам сегодняшнего дня.
Это сделать не сложно, если просто модернизировать историю, подтягивать день вчерашний к сегодняшнему.
Каждая правдивая история войны, картина человеческого подвига или подлости, взлета духа или падения у Быкова всегда — постановка проблемы социальной и нравственной, заостренной, обращенной к любви или ненависти современного читателя. И эта заостренность порой действительно "притчеобразная".
Так вот, обязательно ли это недостаток — "притчеобразность"?
Да, в ней заключена опасность излишней заданности идеи, обеднения жизненных связей, насилия над реальностью во имя идеи или "морали". В "притче" легко обнаруживается недостаточность того, что Лев Толстой считал чрезвычайно важным для правдивого искусства,— "несимметричности".
Определенные потери такого рода найти можно и у Быкова — так что основания делать В. Быкову настораживающие замечания у критиков действительно имеются.
У "простого", "непритчеобразного" реализма, как уже отмечалось, есть свои преимущества, и важнейшее из них — богатство, разветвленность, неожиданность жизненных связей.
Но свои преимущества есть и у реализма "притчеобразного". Как часто бывает в жизни и в искусстве, продолжением недостатков и тут являются неожиданные достоинства.