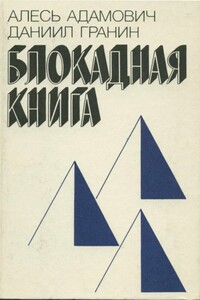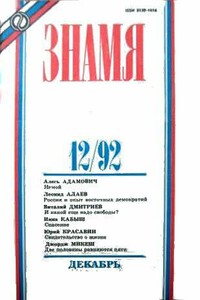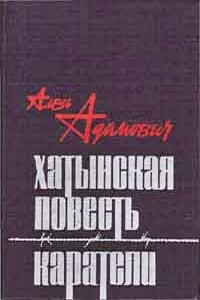Василь Быков | страница 11
Как будет развиваться талант В. Быкова дальше — в направлении "притчи", или же по пути большего документализма, или в каком-то совсем неожиданном направлении — покажет время. Не будем увлекаться подсказками.
Плодотворнее, пожалуй, будет изучить само движение, сам путь художника к сегодняшним успехам и промахам. Последние вещи Быкова, "Сотников" во всяком случае, представляются нам выходом В. Быкова к повести более философской и более психологической. Это снова "виток", но на другом, на новом уровне.
Становление В. Быкова как художника проходило, конечно же, по многим линиям. Но пока выделим одну из самых важных, как нам кажется.
Проблема выбора в условиях крайней, пограничной, кризисной ситуации в большинстве произведений В. Быкова ставится так, решается так, что судьей самому себе человек не является. Он судит других или другие — его, потому что "моральная система" каждого замкнута наглухо; если честный — так честный, а подлец — так уж до конца подлец; и на практике и даже (как Блищинский) "в теории".
И судят они, разные, друг друга и делом и словом, а автор открыто — против авсеевых ("Журавлиный крик"), задорожных ("Третья ракета"), блищинских ("Измена"), черновых и петуховых ("Западня"), бритвиных ("Круглянский мост").
В ситуациях, когда фашисты, когда смерть навалилась, эти трусы, эгоисты, хитрецы-ловкачи, бессердечные карьеристы деловито, обдуманно перекладывают свою часть ноши на других и тем самым губят их, предают их и само дело.
При этом уже в первой своей повести "Журавлиный крик" (и в других — через воспоминания героев, отступления) В. Быков стремится объяснить поведение человека всей его жизнью, его (и не только его) прошлым. (Например, как подтолкнула Пшеничного к мысли о сдаче в плен вся его нелегкая жизнь сына "врага", и хоть нет ему авторского прощения за такой сознательно сделанный шаг, но задумываться читателя над обстоятельствами и оценить их автор понуждает).
Чего нет в этих повестях (вплоть до "Сотникова"), так это психологического, морального суда над собой, "самоказни" таких людей или хотя бы сложного психологического процесса самооправдания. (Оно есть, самооправдание, но тоже как хитрость, своеобразная ловкость, цинизм — Блищинского, Бритвина, но никак не суд над самим собой).
Эту любопытную особенность столь глубоких и ярких произведений не объяснишь незрелостью таланта или "непсихологизмом" его, потому что и таланта и психологизма, но только другого рода, В. Быкову не занимать. Уже в его первых повестях проявились сила и яркость быковского дарования.