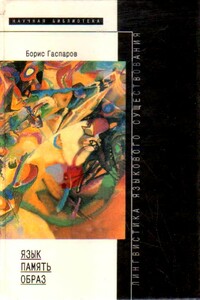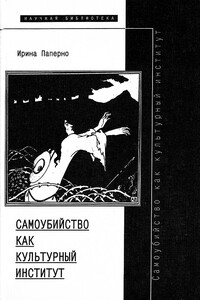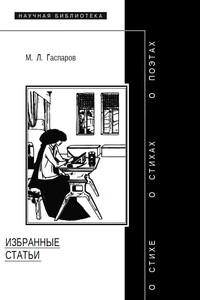Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература | страница 63
Сам Бодорский пишет стихи, которые нигде не публикуют, и давно испытывает «неутолимую, безумную жажду печатать собственные вещи» [Там же: 171]. Со временем успешная переводческая работа на службе идеологии вытесняет эту страсть, уничтожает поэтический дар, и свою жизнь Бодорский считает потраченной впустую, мечтая об уже невозможной настоящей, творческой «подпольной» деятельности, о пусть одиноком, но гордом писании «в стол» [Там же].
Тем не менее феномен еврейских переводчиков как невидимых поэтов империи служит Липкину лишь фоном для того, чтобы поднять проблему советской колониальной (литературной) политики на востоке страны. Помимо государственных репрессий и жестких мер по модернизации коренных народов Средней Азии, сохранивших патриархальный религиозный уклад, автор по большей части показывает насилие над малыми «литературами Востока», чьи созданные на заказ национальные эпосы замалчивают и корректируют подлинную историю того или иного народа, чтобы не дискредитировать идею великорусского господства: «Татарам, поскольку они двести лет владели Русью, просто указывалось начинать свою историю с октября 1917 года» [Там же: 98].
По мнению Ребекки Гульд, Липкин стал одним из немногочисленных советских интеллектуалов, которым удалось осуществить советскую утопию мировой литературы, как бы она ни искажалась на практике: «Своими переводами Липкин стремился создать подлинную республику словесности, опережая в этом какую бы то ни было европейскую модель» [Gould 2012: 421]. Липкинская приверженность – подчас открытая, подчас завуалированная – идее взаимного культурного обмена между центром и периферией отсылает к великому транскультурному проекту, который в советском контексте можно было реализовать лишь частично из-за многочисленных фальсификаций. Удачный перевод определяется в «Декаде» как перенос, основанный на чутком знании чужой культуры и признании как равноценности, так и различий. Русский еврей Липкин разоблачает имперскую культурную эксплуатацию мусульманских народов, анализируя, например, специфику неславянского литературного мышления. В случае вымышленного гушанского автора Хакима Азадаева, которого должен переводить Бодорский, адаптация чужих стилистических особенностей к европейским художественным традициям означает «корректуру» в сторону большей сюжетности и линейного развития действия. Этнографические описания, размышления о мировоззрении суннитов и шиитов, рифмованные этимологические этюды следует вычеркнуть, «очаровательные длинноты» – убрать [Липкин 1990: 111]. Сокрушается рассказчик и об интеллектуальном презрении к «восточным» эстетическим законам на фоне восхищения западными «звездами»: Прустом, Джойсом, Хемингуэем.