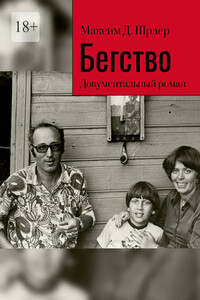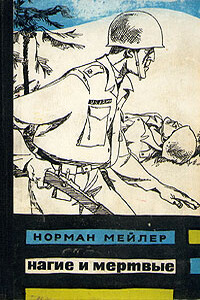Исчезновение Залмана | страница 55
Чуть подальше, за бугром, он увидел Пегого и Эшли. Ее скомканная одежда валялась рядом вместе с седлом и сбруей. Эшли обнимала жеребца за шею и ласкалась плечами, щеками, шеей о его морду. Она тянула его вниз, чтоб достать мордой до своей груди, и что-то ему говорила. Тима присел на корточки, силясь не выкрикнуть ее имя. Эшли ходила вокруг жеребца, поглаживая его бока, спину, хвост. Потом встала на колени у передних ног жеребца и обхватила его ногу двумя руками, как кувшин. Она гладила одну, потом другую ногу снизу вверх, долго и терпеливо. Потом она забралась под живот Пегого, обвив его туловище руками и ногами. Потом Тима видел ее распластанной на жеребьей спине. Потом она скатилась по крупу вниз, к задним ногам. Стало быстро темнеть. Последнее, что Тима смог увидеть ясно, были тонкие щиколотки Эшли, сомкнувшиеся наподобие замка у основания колышущегося жеребьего хвоста. Потом все белые просветы между телами Эшли и Пегого исчезли, то ли сомкнувшись, то ли наполнившись темнотой. Тима бежал прочь, страшась гнева кентавров.
Он лежал в комнате и не мог думать. Эшли не возвращалась. Дядя Витя откашливался над ведром на кухне. Большой длинноногий комар ошалело бился об угол комнаты. Взгляд останавливался на черной водолазке Эшли, ее дымчатом нижнем белье, зеркальце, косметичке. Взгляд застывал.
– Тим, ты не спишь? Ты ждешь меня? Почему в темноте? Ты ел? Почему нет? Что ты на меня так смотришь, как…
Он подошел, почти подбежал к ней, обнял за плечи и целую минуту молча разглядывал.
– Эшли, любимая моя, только давай завтра уедем в Москву. Не говори ничего. Не надо…
Тима убирал ее пепельные пряди со лба, то и дело целуя ее холодные виски. И отбрасывал на пол струнки конских волос, заплетенных в ее растрепанные волосы.
1988–1998–2015
Расширенный текст; дополнения перевел автор
Ловля форели в Вирджинии
В тридцать девять лет Эндрю Ланс стал самым молодым в истории страны поэтом-лауреатом. Он говорил корреспондентам газет и национального радио, что работает над романом в стихах об американце среднего возраста, который себя ощущает самураем. Самураем, живущем в мире разваливающихся принципов и загнивающей чести. «Он неплохо преуспел, сочиняя оды ржавеющим сталелитейным заводам», – ворчали поэты, которые были знакомы с Лансом еще с тех незапамятных времен, когда он учился в знаменитой летней школе писательского мастерства в Зеленых горах Вермонта. Они были, конечно же, правы, что Ланс достиг гораздо большего, чем многие из его сверстников, – именное профессорское «кресло» в одном из университетов Лиги плюща («Лига плаща», как Ланс любил говорить своим студентам, а иногда и «Лига плача», подчеркивая таким образом скорбный возраст своих многоуважаемых коллег); Пулитцеровская премия да еще ожерелье других призов и наград; колониальный особняк в фешенебельном пригороде Филадельфии и летний коттедж на Блок-Айленде; сошедшая с картины Боттичелли жена и двое прекрасных детей – и все это было за счет рифмы и метра.