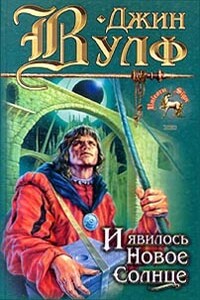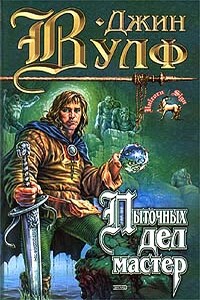Пятая голова Цербера | страница 155
Затем он ушел, и я зажег свечу. Глаза матери, конечно же, были отражением моих собственных глаз в полированной миске, которая сияет сейчас подобно тусклому серебру. Не стоило мне плакать, хотя иногда мне правда кажется, что в каком-то смысле я все еще ребенок. Эта мысль внушала страх. Я сел и долго думал об этом с тех пор, как написал последнее предложение.
Как могла мать научить меня быть мужчиной? Она же ничего не знала, ничего. Может, отец не позволял ей учиться? Насколько помню, она не считала воровство чем-то предосудительным, но, уверен, редко когда брала чужое, разве что по его указке — чаще всего еду. Когда она была сыта, то ничего больше не хотела, и если кто-то хотел увести ее с собой, отец вынужден был ее заставлять. Она старалась обучить меня всему, что необходимо знать о жизни там, где я еще не жил, и не живу сейчас. Как мне было понять, какие уроки касались этой жизни, а какие той, которую я не знал? Я даже не знаю, что такое человеческая зрелость, кроме того, что я ее не достиг, но при этом живу среди зрелых (и при этом часто уступающих мне в росте) мужчин.
По меньшей мере, наполовину я животное. Свободный Народ прекрасен! Так же прекрасен, как олень, как птица или измор-тигрица, за которой я с опаской наблюдал, когда она подобно сиреневой тени неслась к своей добыче, но все они животные. Я разглядывал свое отражение в миске, разглаживая бороду руками так сильно, как только мог, смачивая ее мочой из отхожего ведра, чтобы хоть немного разглядеть черты своего лица. И я увидел перед собой маску зверя, с мордой и горящими глазами. Я не умею говорить. Я всегда знал, что говорю не совсем как остальные, что лишь издаю звуки своим ртом — звуки, достаточно схожие с человеческой речью, чтобы обмануть уши сторожей Кровавого Ручья. Я даже не знаю, что именно сказал тогда. Помню лишь, что после этого вырыл яму и понесся с песнями среди холмов. А сейчас я вообще не могу говорить, а только рычать и издавать отрыжку.