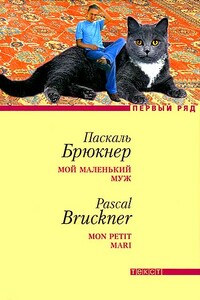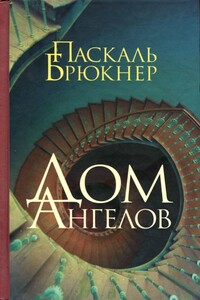Недолговечная вечность: философия долголетия | страница 81
Как бы ни было, мы рано или поздно становимся чем-то, что для простоты называем собственным «я». К удобству быть собой добавляется неудобство быть только собой. Мы создали себя, но мы хотели бы пересоздать себя заново или разрушить созданное. И здесь, возможно, возраст позволит взглянуть с большей проницательностью на провозглашение своего «я» совершенным образцом. «Познай себя», говорил греческий оракул, чтобы знать свои пределы и свои возможности. Но, увы, в моем «я» есть только я, — что бы я ни делал, — а мне для существования нужно чуть больше, чем собственная сущность. Эти владения не составит труда окинуть хозяйским взором. Что же происходит, когда мы стали теми, кто мы есть, — познаём ли мы себя или остаемся для себя загадкой? «Я не знаю, кто я есть, я не есть то, что я знаю», — говорил немецкий мистик Ангелус Силезиус (1624–1677). Фрейд добавил бы: я не тот, кем я себя полагаю, мое «я» не властно надо мной, им движут великие силы бессознательного и Сверх-Я, вихрь желаний и суд критики. Допустим; но это не делает каждого из нас великим Другим или человеком, потрясающим глубиной и необычностью. Даже если психоанализ часто оставляет у пациентов восхитительное ощущение, что они воспарили над безднами своей души.
При этом есть риск не только вообразить себя кем-то, и зачастую вполне успешно (Шатобриан и Виктор Гюго служат нам в этом прекрасными примерами), но и замкнуться в своей великолепной уникальности, воспроизводя до бесконечности одного и того же персонажа. Разве не более захватывающим было бы заявить: стань тем, кем ты не являешься. Мы кладем полвека, чтобы себя найти. А затем горим желанием немного себя потерять. Если каждый из нас — это множество, то какие персонажи появятся под занавес? Возможно ли, чтобы незрелость, затянувшаяся сверх предусмотренных сроков, стала еще и козырем — способом смотреть на мир с удивлением до самого позднего возраста. Молодость: все, или почти все, хотят стать почетными гражданами этой давным-давно пропащей страны. «Я чувствую себя молодым», — говорят 40-, 50- и даже 60-летние, и, вполне вероятно, они правы в своем юношеском бунте против очевидного. «Сорок лет, — говорил Пеги, — возраст ужасный, возраст непростительный <…> Это больше не мучительный возраст, как о нем болтают <…> Потому что это возраст, когда мы становимся теми, кто мы есть» [2]. Фатальное видение, нависающее, точно нож гильотины: сорокалетний человек, ограниченный, как стенами тюрьмы, своими временными рамками и не имеющий возможности выйти за их пределы. Один, наедине с самим собой, он скоро начнет сходить с ума. А значит, просто необходимо прекратить копаться в самом себе, нужно с головой окунуться в какое-то дело, в работу или любовь. Нет ничего ужасного или непоправимого в том, чтобы вновь обратиться к формулировке Пеги, если не брать во внимание, что в его время сорокалетие считалось преддверием старости. Однако сегодня сорокалетний — почти мальчишка в глазах общества, и у него еще достаточно сил и возможностей, чтобы измениться и открыть в себе новые неожиданные стороны. Забота о себе, которую так горячо проповедовал Мишель Фуко на закате своей карьеры, оправдана тогда, когда мы получаем образование. Впоследствии мы понимаем ее скорее как праздность, благоразумное расходование сил. Желание состояться как личность предполагает намерение избежать подобного понимания.