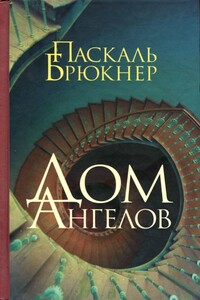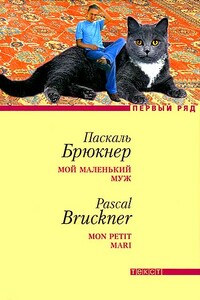Недолговечная вечность: философия долголетия | страница 113
Чем мечтать о каком-то несбыточном рае, не лучше ли смотреть на бессмертие как на данную нам способность вновь и вновь воплощаться в этой жизни. «В нас есть что-то, что не умирает», — говорил Боссюэ; «что- то» — это «божественный свет», врата, ведущие к освобождению [14]. На пороге смерти душа, по его мнению, должна радоваться, что она наконец отправится навстречу истине. Для агностика тем дивным пламенем, что позволяет ему оставаться в строю, служит уверенность, что Спасение не придет в конце его жизненного срока, но что оно присутствует здесь и сейчас, в серой прозе наших будней. Вечность — это то, что мы переживаем в данный конкретный момент. И другой у нас нет и не будет.
Конечно, моя смерть ужасна; однако она гораздо менее ужасна, чем смерть людей, которых я люблю, без которых я не хочу оставаться наедине с этим миром. Моя смерть — жестокая формальность; смерть дорогих мне людей — онтологическая катастрофа. Постепенное исчезновение родных и близких по мере того, как увеличивается наш возраст, превращает мир вокруг нас в пустыню, а сами мы, всё еще живущие, становимся анахронизмами в лишенной жизни вселенной. «Жить долго — значит пережить многое», — говорил Гете. И следовательно, все, что нам досталось, — это недолговечная вечность. До тех пор, пока мы любим, пока мы созидаем, — мы остаемся бессмертными. Нужно очень любить жизнь, чтобы принять факт, что однажды она покинет нас, что право радоваться жизни перейдет к следующим поколениям.
Деликатное искусство утешения
Нужно быть очень осторожными с выражением поддержки, которую мы щедро расточаем в адрес тех, кто страдает, ибо здесь мы находимся между двух огней: можно либо оказаться слишком формальными, либо сыпать бредовыми высказываниями. В римской философии полно таких рассуждений — столь же благородных, сколь патетических. К примеру, призывать жертву какого-либо несчастья смириться с ним, утверждая, что все могло быть еще хуже. Ты потерял кисть руки? Утешься мыслью, что это могла быть вся рука целиком. Твой глаз поражен инфекцией и ты рискуешь его потерять? Так радуйся, что другой остался целым! Нужно просто превратить потерю в выигрыш: представить себе самое худшее, чтобы считать себя везунчиком. (Разве это не то же самое, что мы неосознанно делаем, когда нам удается, например, выбраться из какой- нибудь аварии невредимыми, получив лишь несколько царапин?) Сенека, обращаясь с утешением к Марции — матери, на глазах которой умер ее сын, — объясняет, что она должна считать себя счастливой, так как долгое время наблюдала жизнь сына, шедшего по пути добродетели. Если бы его жизнь продлилась до старости, он, вполне вероятно, запятнал бы себя пьянством и оргиями, мог бы оказаться в тюрьме, в изгнании или был бы принужден к самоубийству [15]. В довершение, поскольку «самая большая удача — это не родиться вовсе», потерянный сын должен радоваться тому, что уже в молодые годы вернулся в то состояние, в котором пребывал до рождения. «Стыдись, Марция, питать малейшую низкую или грубую мысль и оплакивать твоих близких, тогда как их положение стало лучше. Они унеслись от нас в бескрайние и свободные пространства вечности…» [16] Такого рода отказ в праве на страдание может дойти до бесчувственности: если для нас худшим несчастьем является потеря любимого существа, то реагировать как Эпиктет: «Никогда не говори, что ты что-то потерял, но говори, что отдал. Умер твой сын? Он был отдан назад. Умерла твоя жена? Она была отдана назад», — это редкостная жестокость, если только человек не возвел атараксию в ранг добродетели. Уж лучше предпочесть того, кто по долгу службы должен выражать притворную печаль, — тех же сотрудников похоронных бюро, которых с большим трудом можно заподозрить в сочувствии. По крайней мере, мы не ждем от них ничего, кроме выполнения их обязанностей. Боль неразделенной любви, разлад с близкими, разорение, смерть или болезнь требуют по отношению к себе разных слов и советов. Одни побуждают к конкретным действиям, другие предполагают более долгий и тщательный анализ происходящего. После смерти любимой дочери Туллии совершенно опустошенный Цицерон возвращается к занятиям: он перечитывает у своего друга Аттика все тексты, «написанные кем бы то ни было об утолении печали», и пишет