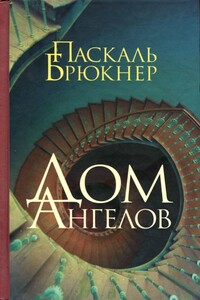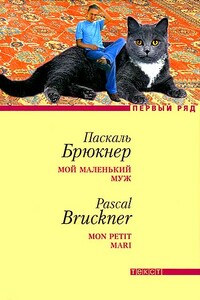Недолговечная вечность: философия долголетия | страница 110
Признаемся, что подобное предсмертное прощание может способствовать развитию непроходящей бессонницы. Мы заранее переживаем возможные грядущие бедствия, чтобы не быть застигнутыми врасплох, если они нас коснутся. Несмотря на всю нашу мудрость, мы удивляемся поразившей нас болезни, свалившимся на нашу голову несчастьям, даже смерти, хотя знаем, что она неизбежна. Стоицизм — это добровольный фатализм: нужно с радостью принимать самые жестокие испытания, как если бы они были в порядке вещей. «Не требуй, чтобы события совершались так, как тебе хочется, но принимай происходящее таким, каково оно есть, и будешь счастлив» [5] (Эпиктет). Сценарий худшего развития событий возникает в головах наиболее тревожных из нас еще и из суеверных соображений: они полагают, что самое отвратительное не случится, поскольку они его уже вообразили. Превентивная печаль — извращенная форма оптимизма. Во время жарких дебатов, происходивших во Франции в 2019 году, общественные активисты предложили, чтобы депутаты проходили практику обязательной бедности и таким образом в полной мере проникались положением, в котором живут изгои общества. Однако краткий опыт нищеты не только не способен пробудить наше сознание, но, наоборот, может заставить нас устремиться к достатку и возненавидеть бедность.
Что касается тренировки страдания или имитации потери, рекомендуемых античными мыслителями, то они никак не помогут нам перенести реальные горести, когда те обрушатся на нас. Не было случая, чтобы попытка представить себе грядущее несчастье во всех деталях уберегла нас от него. Наше отчаяние не становится меньше оттого, что мы к нему готовились. Когда приходит беда, мы всё так же поражены и возмущены ею.
Достоверность того, что мы однажды умрем, превращает нашу жизнь в трагедию и страсть: недолговечность всего сущего разжигает желание взять от жизни всё, вгрызться в нее зубами. «Ребенок, чуть родившись на свет, уже достаточно стар, чтобы умереть» — гласит немецкая пословица; но современная эпоха заявляет, что все наоборот: мы всегда будем слишком молоды, чтобы уходить из жизни, ведь медицина и другие науки отсрочили наступление конца, и это просто возмутительно — умирать, неважно, в каком возрасте. Еще в 1886 году Лев Толстой в повести «Смерть Ивана Ильича» показал, до какой степени смерть в современном ему обществе стала восприниматься как неприятная, отчасти даже неприличная помеха [6]. В свою очередь, Зигмунд Фрейд отмечал в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, что общество больше не желает мириться с естественным характером смерти, низводя ее до уровня случайного события, вызванного болезнью или инфекцией. Смерть перестала быть нормальным явлением, и уже давно [7]. Могло бы случиться и по-другому, мы могли бы побарахтаться еще годик-другой — и вот это самое невыносимое. Хуже, чем смерть, может оказаться физическая и ментальная несостоятельность старика, годами влачащего растительное существование в хосписе. Болезнь, которая отнимает способность распоряжаться собой, вычеркивает человека из общества других людей и превращает его в бессмысленный, пускающий слюни овощ, гораздо страшнее смерти. Такая болезнь по праву приводит нас в ужас. Когда-то страх смерти грозил не слишком добродетельным верующим перспективой вечного наказания в геенне огненной. Кошмар сегодняшнего дня — бесконечное прозябание на больничной койке слабым беспомощным стариком, полностью зависящим от милости других людей.