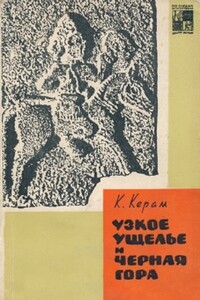От Олимпии до Ниневии во времена Гомера | страница 67
Гесиод в этом смысле гораздо ближе к народу. Его «Труды и дни», при всей их чрезмерной назидательности, образец книги, переполненной суевериями. Вместе с тем книге присуще религиозное чувство близости к богам и к природе. Гомеровские же поэмы, автор которых все время движется по узкой тропке отточенной иронии, никогда не могли стать народной книгой для простых людей, а предназначались скорее для просвещенных афинян— образованных скептиков. Набожные современники и позднейшие обыватели считали Гомера клеветником и богохульником, и нельзя сказать, что они были не правы.
Хотя Гомер и не был философом, он все же проложил дорогу греческой мысли. Ведь именно Гомер исключил воспетую им олимпийскую семью богов из числа тех сил, которые могут помочь человеку в нужде. Хотя впоследствии греческие представления о достоинстве человека пошли совсем не по тому пути, который наметил Гомер, он все-таки толкал греков на размышления о взаимоотношениях человека с природой, а не с божеством. Правда, эта мысль вызвала и ответную реакцию. Лишь очень немногие из людей могли отвечать сами за себя и не признавать потусторонних сил. Они искали совета и помощи у высших сил, а так как государственная религия не обеспечивала им ее, то охотно обращались к неистовству оргий, думая таким образом приобщиться к божеству.
Оргиастические культы[37] были необходимым дополнением к той удобной и спокойной религии, которая считает истинным и важным только то, что человек может понять и осмыслить без особого напряжения. Во II тысячелетии до н. э. оргий не было. Они появились во Фригии, в Малой Азии, и начали оттуда свое победное шествие. В Греции культ Диониса был облагорожен трагедией, а культ Деметры углублен мистериями. В этом проявился далеко не всегда склонный к уравновешенности греческий дух, создав то, на что другие народы оказались не способны. Адонис, Аттис, Кибела вошли в моду и в Греции, но отношение к ним сложилось ироническое. Значение этих культов на Переднем Востоке было несравненно большим; служение им становилось содержанием жизни. В них люди находили спасение от множества каменных и бронзовых изваяний, которые противники натуралистических изображений богов называли «творением рук человеческих».
Синаххериб спрашивает жителей Иерусалима:
«Спасли ли боги народов, каждый свою землю, от руки царя ассирийского?»
(Кн. пророка Исайи, 36, 18).
Езекия отвечает уклончиво:
«Правда, о Господи! Цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь; но это были не боги, а изделие рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их»