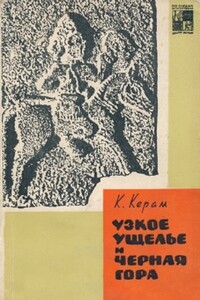От Олимпии до Ниневии во времена Гомера | страница 68
(Кн. пророка Исайи, 37, 18 сл.).
Наивно было, конечно, думать, что народы отождествляли идолов с самими богами, а не воспринимали их как символы божественного присутствия; но именно в силу своей доступности и простоты аргумент Езекии мог понравиться. Он был выгоден жрецам, и ему отдали предпочтение. Это аргумент самой эпохи с ее сознательным сведением всего многообразия вещей в кругу понятий, легко воспринимаемых человеческим разумом. Неизбежно возникающая при этом пустота заполняется суевериями, которые коренятся в стремлении человека иметь обо всем какие-то конкретные, доступные его пониманию представления. Лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. Удобная и разумная поверхностность, делающая окружающий нас мир легко познаваемым, стала гибельной для попыток религиозного самоуглубления. Именно в таких условиях могли возникнуть произведения, подобные «Трудам и дням» Гесиода или «Повести об Ахикаре». Высокоразвитому уму Гомера не оставалось ничего другого, кроме изысканной иронии. Но ни здравый смысл, ни остроумие не могут служить питательной средой для развития религии.
Литература
Рассматриваемый нами период был малоблагоприятен не только для создания новой религии, но и для возникновения литературы нравственного и духовного содержания. Конечно, мы располагаем эпическими поэмами Гомера и Гесиода и произведениями лириков: мужественными и воинственными — Тиртея, горькими и ироничными — Архилоха, включающими в себя все оттенки: от бурного жизнеутверждения до мрачного неприятия жизни. Однако все эти произведения остаются в плену земных представлений. Абстрактные, умозрительные взгляды, свойственные VI в. до н. э., казались очень далекими человеку VII столетия. Из письменных памятников этого периода до нас не дошло от других (кроме греческого) народов ни одного целиком сохранившегося литературного произведения, но было бы удивительно, если бы охватившее весь мир стремление к широкому освещению проблем и неукротимая любознательность, интерес к свойствам вещей и человеческим поступкам — если бы все это не привело к появлению в Передней Азии богатой литературы. И действительно, кое-что мы о ней знаем.
Со времени Ашшурбанипала ассирийцы начали старательно собирать и переписывать вавилонские литературные памятники предшествующих тысячелетий, но, несмотря на эту библиографическую деятельность, от них не осталось никакого собственного литературного наследства. Для раннеассирийского эпоса характерны скорее индоевропейские касситские черты, нежели местные ассирийские, которые нам хорошо известны по анналам того времени. Единственное, что мы можем в известной степени назвать «литературой», — это летопись Саргона с описанием его похода в Урарту — образец напыщенной патетики, совершенно оторванный от действительности именно потому, что претендовал на литературные красоты. В летописи не встретишь ни сколько-нибудь стоящих описаний природы (хотя о ней говорится немало), ни живых эпизодов войны. Эта удивительно небрежно сделанная работа человека, гордящегося своей образованностью и вкусом, ясно показывает, что ассирийцы не были способны к поэзии. Все, что так поражает в изобразительном искусстве ассирийцев (точность и наблюдательность в изображении повседневности; умение показать радости и горести будничной жизни), полностью отсутствует в их литературе. Но разве можно ожидать от автора морально приемлемой концепции, если вспомнить о той алчности и насилиях, которые творили ассирийцы?