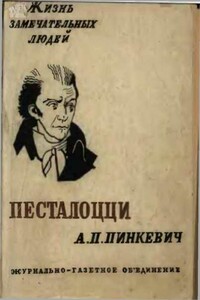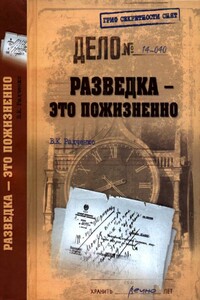Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 годов | страница 155
1.12.91. Умер Борис Давыдович Сурис – большая для меня потеря. Весь мой немалый интерес к живописи находил поддержку у него. Да и посоветоваться стало не с кем. Был сегодня у них дома – отвозил рукопись Лапшина[606] – пусто, бессмысленно, его портрет в черной раме и собранные чемоданы. Таня приехала из Хайфы – летит назад, Юра и мать уезжают в Ганновер[607].
8.12.91. Из Совета дома вышел – никому не нужно то, что я делаю. До следующего года пересижу, а там посмотрим, да и слишком много ко мне просьб, на все не ответишь.
9.12.91. Читаю Трубецкого об иконе[608], а думаю – ищу – объяснения картины Марковой[609]. Она имеет несомненную связь с иконой, с тем храмом – возможно рухнувшим, – изображенным как клеймо в правом верхнем ее углу. В центре – ампула, сосуд своего «я», оболочка, душа, глаза души…
Используя Гаспарова[610], попробовать оценить связи, найти мотивацию каждого фрагмента, понять суть вещи. Когда написано? Что рушилось в ее жизни? Что заставило ее искать другой город?[611] Вот вопросы…
18.1.92. Вчера был прекрасный духовный вечер, посвященный выставке Бориса Исааковича[612]. Таинственный человек, о котором говорили, что он болтун и бездельник, повесил у себя дома табличку: «Молчание!». Он приходил, запирал двери и работал, писал свое, строил свой мир – близкий Филонову. Но «прибавляя» к тому, найденному величайшим учителем, собственное дарование.
Алла Васильевна Повелихина[613] сказала мне уже после обсуждения и после моего призыва воспользоваться «мотивным анализом» (Борис Гаспаров), что оказалось, что подпольная жизнь уже прекратилась у всех в конце тридцатых и началась в конце пятидесятых. Что это? А это удивительное дело. Видимо, силы добра были уже почти побеждены, они вот-вот должны были пасть мертвыми. Замолчали Кондратьев, Стерлигов, Глебова – весь приниженный авангард. Видимо, это время – это конец надежд. Свобода не вернется, нужно сдаваться, быть как требуют… Помню, что Самохвалов убеждал нас с Гором, что в 20‐е он работал неверно, а верно во второй части жизни, когда писал Ленина на съезде Советов. Другие не писали, но уже не было сил творить. И вдруг – 56‐й год, госсъезд, волна общественного счастья и возвращенного сознания. Видимо, сороковые – пятидесятые – это глубокий обморок с потерей памяти. А что было бы, если бы это длилось до семидесятых. Могло быть.
В шестидесятых они все еще пугались, но уже не так (уже был хрущевский крик), стали тайно писать…