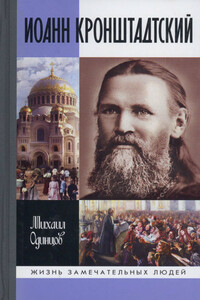Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 годов | страница 125
Можно было бы упрекнуть художника в лукавстве, если бы не высокая цель. Согласитесь, стоило отдать дань текущему, чтобы потом посвятить себя вечному. Хотя бы тем же, уже упомянутым, самовару и яблокам.
Для Фрумака, Гершова и Зисмана ситуация изменилась только после пенсии. Теперь они могли не бегать за каждой копейкой. Все упростилось: гордо подходишь к окошку на почте и расписываешься за причитающуюся тебе сумму.
Государство считало, что отправило художников на заслуженный отдых, а на самом деле работа кипела. Можно было не думать ни о чем, кроме творчества. Так они чувствовали себя в юности, когда жили под присмотром учителей. Кажется, и сейчас мэтры не оставляли их вниманием. «Неплохо», – улыбался Малевич. «Красиво вышло», – вторил Шагал.
Со страниц дневника об этом говорит Зисман: «Чтобы искусство было молодым, нужно стать старым человеком» (запись от 31.5.93). Эту же мысль подтверждает Лев Британишский[477], сказавший в начале шестидесятых: «Теперь я знаю, как начинать» (запись от 3.12.83).
Помимо «детей» и «внуков» существовали художники вроде как «без связей». Традицию они восприняли не напрямую, а опосредованно.
Например, Геннадий Устюгов. Непонятный человек, рисующий столь же непонятных людей. Точнее, это нам они были странны, а для него, возможно, странными были мы. Ведь мы носили брюки и пиджаки, а его герои – жабо и шляпы с перьями (записи от 20.2.72, 28.4.72, 6.8.89, 27.5.95).
Или художник Соломон Россин[478]. Помню полутьму в его мастерской – видно, хозяин еще не принял решения. Наконец штора открылась, а там – такое! К оконной перекладине было пришпилено фото Солженицына. Самый знаменитый в мире зэк строго – и, кажется, даже сердито – смотрел на пришедших.
Взгляд самого Россина был столь же недвусмысленным. Его картины представляли не вопросы, а ответы. Да, так и есть, и тут ничего не поделаешь. Кривое – это кривое, убогое – убогое. Правда, цвет на его холстах вроде как спорил с линией. Нес в себе представление о гармонии.
И реакции художника были прямые. Когда отец предложил ему сделать выставку, он только ухмыльнулся. Мол, мы уже ученые. Успели оценить правоту высокочтимого зэка. Так и живем, как он советовал, – не верим, не боимся, не просим.
Россин немного преувеличивал в угоду мрачноватому имиджу – все же выставки понемногу устраивались. То в малом зале Ленэнерго, то в библиотеке Академии наук. Самые шумные прошли в ДК Газа и ДК Кирова. Ни одно из этих заведений не развило успех и не стало постоянной площадкой для художников.