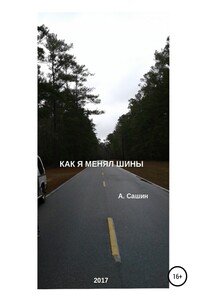Созопольские рассказы | страница 6
Я сидел на уединенном пляже, смотрел на баркас и на его оранжевое отражение в воде, и горькие думы теснились в моей голове. И эти берега, и синеющий летний день, и спокойная прелесть окружающего нас мира — все это подарено нам неизвестным советским моряком и братом Правды…
Море по-прежнему было безумно синим и бесчувственным. От утесов исходило густое ржавое сияние, дымясь, как над жертвенником.
Больше нам не сиделось здесь.
Мы перебрались в лодку и, взявшись за весла, поплыли к горизонту.
ДУЛ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР ГРЕОС
Большой приморский город был дочиста подметен вчерашней бурей. Его безлюдные улицы и старые фасады навевали тоску. Я вздохнул с облегчением лишь после того, как сел в скорый поезд, идущий в Софию, и протер глаза, засоренные песком.
Немного погодя поезд тронулся и тотчас же погрузился в бескрайнюю хмурость октябрьского дня. Струясь с пасмурного белесого неба, она, казалось, обесцвечивала все краски в мире.
Веселые багряные рощи, оливково-зеленые камыши, чистая черная тушь пашен, мягкая охра холмов, атласные небеса — все потемнело, все растворилось в серых тонах ветреного дня.
Мимо меня пробегали голые пейзажи осиротевшей осенней земли, рождая в душе томительную смесь безнадежности, скуки и грусти.
Для одинокого пассажира нет ничего тягостнее таких дней.
Особенно когда в поезде пусто.
В такие дни не помогают и книги. Читаешь, А на страницы падает докучливое отражение серого дня, и кажется, от этого линяет сама фантазия.
Я поднялся и прошел в вагон-ресторан. В нем было пусто и холодно. Не снимая плаща и берета, я заказал рюмку коньяка. В море я немного простудился.
Официанты оказались неразговорчивыми и важными. Таким лучше быть швейцарами. Примирившись с вынужденным одиночеством, я заставил себя думать о разных приятных вещах.
Мне припомнился жаркий летний день, свежая синь моря, желтые берега и черная лодка барбы Николая. Мы ловили рыбу и молчали. Борода его была бурой, словно сухие водоросли.
— Привет, коллега! — произнес кто-то за моей спиной почтительно-фамильярным тоном, прервав мои мысли.
Это был сухопарый бодрый старичок в черном выходном костюме и черном же демисезонном пальто. На голове у него был огромный берет, и быть может, поэтому его монашески худое лицо выглядело совсем миниатюрным. Кашне, к моему удивлению, не было белым, не было и шелковым, а из какой-то бумажной материи в крупную клетку: желто-черно-красное. Старикашка напоминал чучело и невольно вызывал усмешку. Я видел его впервые.