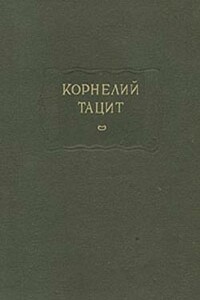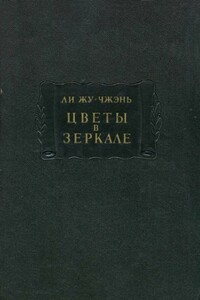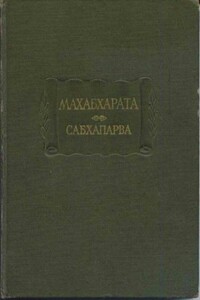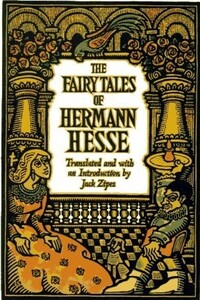Кадамбари | страница 138
Как ни старалась Кадамбари обрести покой, все ее старания кончились неудачей, и тогда, как если бы любовь лишила ее собственной воли и подчинила воле кого-то другого, она подошла к решетчатому окну и устремила взгляд в сторону искусственной горки. Словно бы опасаясь, что ей воспрепятствуют слезы любви, она пыталась увидеть Чандрапиду не глазами, а памятью. Словно бы страшась, что ей помешает пот, увлажнивший пальцы, она рисовала его в уме, а не на холсте. Словно бы испугавшись преграды поднявшихся на теле волосков, она прижимала его прямо к сердцу, а не к груди. И словно бы не способная ни на миг продлить разлуку, она посылала за ним свои мысли, а не слуг.
Между тем Чандрапида вошел в золотой павильон, как раньше он вошел в сердце Кадамбари, и опустился на ковер, расстеленный поверх скалы и обложенный со всех сторон грудами подушек. Кеюрака возложил себе на колени его ноги, вокруг по его указанию расселись служанки, а Чандрапида, полный сомнений, принялся про себя рассуждать: «Откуда у дочери царя гандхарвов эти искусные манеры, способные похитить сердце любого человека? Присущи ли они ей от рождения или это ради меня им научил ее бог любви, милостивый ко мне, хотя я ничем не заслужил его благосклонности? Своими прищуренными глазами, прикрытыми пеленой слез, будто цветочной пыльцой с поразивших ей сердце стрел Маданы, она искоса бросала в мою сторону потаенные взоры. Когда же я смотрел на нее, она стыдливо пряталась за блеском улыбки, словно за белым шелковым пологом. Она застенчиво отворачивала лицо и вместо глаз подставляла мне зеркало своих щек, как бы желая, чтобы в них отразились мои черты. Она царапала ноготком по кушетке, словно бы рисуя знак прихоти своего сердца, давшего мне приют. Рукой, поднесшей мне бетель и еще дрожащей от напряжения, она словно бы обмахивала свое пылающее лицо, и вокруг ее ладони, принимая ее за розовый лотос, вился темный рой пчел, который выглядел как черный листок тамалы».
А затем он подумал: «Нет, видно, это воображение, столь свойственное человеку, затуманивает мне голову тысячью миражей. То ли Мадана, то ли пьяные грезы юности лишают меня рассудка. Ведь глаза юношей, будто пораженные слепотой, даже в чем-то пустячном склонны видеть великое. Даже капля приязни разрастается в их фантазиях, как масло в воде. Нет такой мечты, какой бы не пестовал незрелый ум, порождающий, подобно воображению поэта, сотни видений. Нет ничего, чего бы он себе не представил, когда им, словно кистью художника, завладеет коварный Манматха. Нет такой крайности, на которую, словно ветреницу, хвастающую своей красотой, не толкнет человека самообольщение. Желание, точно сон, рисует то, чего никогда не было. Надежда, точно фокусник, внушает то, чего быть не может». И еще он подумал: «К чему эти бесплодные и тревожные мысли! Если сердце светлоглазой царевны действительно ко мне расположено, мой покровитель Манматха, хоть я и не заслужил его благосклонности, сам даст мне знать об этом и устранит мои сомнения».